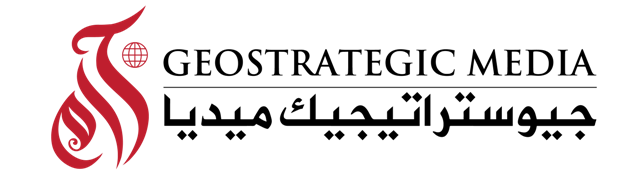Военная структура «Исламского государства»
 Статья Антона Мардасова и Кирилла Семенова
Статья Антона Мардасова и Кирилла Семенова
Несмотря на ожесточенное сопротивление, «Исламское государство» медленно, но верно теряет контроль над территориями в Сирии и Ираке. Не вызывает сомнений, что в перспективе анклавы в Ираке (Хавиджа, Тель-Афар, Аль-Каим) и Сирии (Ракка и города в провинции Дейр эз-Зор) будут освобождены от ИГ.
Как следствие, разрушится идея нового «халифата», а организация возвратится к «исходным условиям»[1] – на положение подпольного повстанческого движения. То есть, к своему некогда привычному состоянию, в котором руководство организации пребывало долгие годы до провозглашения «халифата». Но по сравнению с 2006–2008 годами организация стала в разы сильнее и превратилась в новый террористический транснациональный центр с большой агентурной сетью, активными и «спящими» ячейками и опытом создания административного управления и полноценных вооруженных сил, которые по боеспособности превосходили многие регулярные армии Ближнего Востока.
Исходя из перехваченной документации исламистов, лидеры ИГ начали готовиться к территориальным потерям в Ираке еще в 2015 году. В качестве превентивной меры для конспирации создавались параллельные органы командования, инициатива передавалась на места в пользу автономности действий отрядов. Но главное – в боевых действиях была избрана стратегия, которую можно охарактеризовать, как «чем хуже, тем лучше»: чем больше жертв среди мирного населения, чем острее этноконфессиональные противоречия, чем сложнее восстановить разрушенные города, тем лучше для джихадистов. Это ключевой фактор для жизнеспособности организации и для возможной реинкарнации «халифата» и его полноценных «вооруженных сил», которые понесли серьезные потери.
«Центральное командование» вооруженных сил «Исламского государства»
Вооруженные силы «Исламского государства» можно разделить на семь частей, или «родов войск»: пехота, снайперы, противовоздушная оборона, спецназ, артиллерийские силы, «армия невзгод» (аналог МЧС) и «армия халифата»[2]. Кроме того, военные силы ИГ можно разделить, согласно их подчинению, на части «Центрального командования» («Центком») и части «Командования вилайетов» (провинций, границы которых не совпадают с общепринятыми).
Основа сил «Центкома» (ЦК) – «армия халифата», «командования вилайетов» (КВ) – «регулярная армия», состоящая из соединений корпусного типа, размещенных в каждом из вилайетов. В них представлены шесть «родов войск», кроме «армии халифата», в отдельных соединениях которой могут быть также подразделения всех шести «родов войск». Указанная структура затрагивает только территории ИГ в Ираке и Сирии. В «дальних вилайетах» (в других странах) она зависит от возможностей местного командования. Скажем, в вилайете «аль-Харамейн» (Саудовская Аравия) – ИГ представлено в качестве исключительно подпольных террористических ячеек, которые не имеют четкой иерархии.
«Армия халифата» – основа ЦК – была развернута в три отдельных «армии» (jaysh): «Джейш аль-Халифа» (то есть непосредственно «армия халифата»), к которой добавились «Джейш аль-Дабик» и «Джейш аль-Усра». Первая действовала, прежде всего, в районе Мосула, вторая имела, по всей видимости, штаб-квартиру в Ракке, а третья являлась «ударным корпусом» в провинции Алеппо, но все три объединения могли быть переброшены на иные направления в зависимости от ситуации на фронтах. По некоторым данным, планировалось, что численность каждой из «армий» должна составлять 12 000 человек, но, скорее всего, это сильно завышенные оценки и все три объединения в совокупности составляли названную цифру, может, чуть больше.
В эти армии ЦК входили различные соединения для действий на всех подконтрольных ИГ территориях Ирака и Сирии. Такие военные части ИГ называют арабским словом «nukba», то есть «элитные». Эти силы могут свободно маневрировать и перебрасываться на угрожаемые направления или, наоборот, в те районы, где необходимо организовать наступления. Обычно они выступали в качестве подкреплений, решающего резерва или «ударного кулака» и действовали в тесном взаимодействии с силами «вилайетов».
Кроме того, до сих пор существуют особые подразделения, не входящие ни в одну из названных «армий» ЦК, например, «Батальоны Баттар»[3], укомплектованные преимущественно выходцами из стран Магриба. Главную роль в них играют ливийцы, многие из которых опытные боевики, прошедшие Афганистан и Боснию, участвовавшие в восстании против Каддафи и затем перебравшиеся в Сирию, где примкнули к ИГИЛ. В составе батальонов также есть граждане Бельгии арабского, прежде всего, североафриканского происхождения. Эти подразделения – самостоятельная военная структура, по сути, «лейб-гвардия», подчиненная непосредственно «халифу» – Абу Бакру аль-Багдади. Собственно, личную охрану лидера ИГ и других высокопоставленных лиц осуществляют бойцы этих батальонов. По некоторым данным, в основном – тунисские граждане и бывшие иракские специалисты, служившие в структурах безопасности партии БААС. Также эти подразделения в свое время формировали особые «ликвидационные команды», которые отвечали за убийства тех, кто отказывался дать присягу аль-Багдади. Кроме того, представители «Батальонов Баттар» участвовали в организации и возглавили филиал ИГ в Ливии со столицей в Сирте, который осенью 2016 года был отбит «Бригадами Мисурата».
Также самостоятельной структурой исламистского «Центкома», по некоторым данным, были батальоны спецназначения «Группы центрального командования», которыми руководил[4] гражданин Грузии Тархан Батирашвили, более известный как Абу Умар аш-Шишани. Эти подразделения в основном были укомплектованы русскоязычными представителями народов Кавказа и гражданами республик СНГ. После гибели аш-Шишани и больших потерь в личном составе, по некоторым данным, бойцы батальонов вошли в состав русскоязычной бригады снайперов «Аль-Фуркан», которая вместе с бригадой «Тарик ибн Зияд» действовала в Мосуле. Последняя была названа[5] в честь исламского полководца, покорившего Аль-Андалус, то есть королевство вестготов на Пиренейском полуострове. Название формирования указывает и на ее национальный состав, в которой воевали в основном франкоязычные жители арабского Магриба, выходцы из Алжира, Мавритании, Марокко, Туниса, многие из которых прибыли из Европы, где успели обзавестись гражданством ряда государств ЕС.
Еще можно выделить «Бригаду Нахаванд», которая комплектовалась представителями народов Индостана, Юго-Восточной Азии, Индонезии и которая в Мосуле специализировалась на засадах, пользуясь сетью подземных тоннелей. Среди соединений ЦК, действующих в Сирии, можно также упомянуть дивизии «Табук» и «Мута».
В состав сил ЦК включались и механизированные соединения, оснащенные бронетанковой техникой. Достоверно известно об одной такой военной части – 3-й механизированной бригаде, которая действовала в Ираке. Однако большие потери ИГ в бронетанковой технике во время битвы у Кобани (ноябрь 2014 – январь 2015) могут свидетельствовать о существовании еще одной такой бригады – сирийской.
«Командования вилайетов»
В ИГ у каждого назначенного главы провинции («вали») обязательно существовал заместитель по военным делам («военный эмир» провинции), которому подчинялись командиры «дивизий» этого вилайета. Количество таких соединений в каждой из провинций в Сирии и Ираке могло доходить до четырех. «Дивизия вилайета», в свою очередь, состояла из двух полков, каждый полк – из четырех рот, каждая рота – из трех взводов. Кроме того, в составе «дивизии» присутствовали артиллерийско-минометный дивизион, танковый батальон и средства ПВО[6]. Таким образом, численность подобного соединения вряд ли может превышать 1500–2000 бойцов.
Также следует упомянуть и так называемые локальные, или местные силы. Они были подчинены КВ, но являлись гарнизонами отдельных населенных пунктов. Поэтому их часто выделяли в качестве отдельного вида вооруженных формирований, наряду с силами ЦК и КВ согласно подчиненности.
Кроме того, ИГ предпринимало попытки создать «иррегулярные силы» путем привлечения к «службе» племена Ирака и Сирии. По некоторым данным, для этой цели было создано специальное министерство «Диван аль-Ашаер» («министерство племен»). Однако его работа оценивается весьма скромно: большинство племен ирако-сирийского пограничья отказались войти в военную структуру ИГ, поплатившись за это убийствами своих членов, как племя Шайтат в Сирии или Аль Бу Нимр в Ираке. Некоторые племена все-таки присоединялись к ИГ, но в основном из-за того, что были поставлены перед выбором: или «халифат», или ополчение «Хашд аш-Шааби», в котором, несмотря на все попытки введения ряда его формирований в состав армии накануне наступления на Мосул, главную роль играют радикальные шиитские группировки.
Оснащение военных формирований ИГ техникой и вооружением
Основным источником пополнения ИГ своего парка военной техники и арсеналов были и остаются военные трофеи. Так, в ходе захвата Мосула и последующего «блицкрига» ИГ в Ираке летом 2014 года были захвачены военные базы и склады с вооружениями иракской армии. Это позволило значительно увеличить мобильность соединений ИГ, оснастив их различными видами транспортных средств. В частности, среди захваченных в боях с иракской армией образцов ВВТ было до 2300 американских внедорожников HUMVEE[7]. Также в Ираке было захвачено несколько десятков танков советского образца Т-55 и Т-72, китайских Т-69, американских семейства М1, а также более 100 ББМ: американских БТР M1117 и M113, советских МТ-ЛБ и БМП-1 и украинских БТР-80УП и БТР-4 (четыре и две единицы соответственно). Однако эти оценки приблизительные и касаются машин без видимых повреждений, в действительности в строй могло войти значительно больше.
Увеличение оперативной мобильности соединений ИГ за счет военных трофеев в Ираке позволяло в сжатые сроки перебрасывать силы ЦК с иракского ТВД на сирийский и наоборот. Это также обусловило стремительное продвижение ИГ в Сирии, где исламисты во второй половине 2014 года смогли нанести серьезные поражения сирийской оппозиции, а также своему конкуренту по «джихадистскому спектру» – «Фронту ан-Нусра», отбив обширные территории, включая город Ракка, ставший затем неофициальной столицей «халифата».
В боях с формированиями сирийской оппозиции ИГ смогло пополнить и собственные военные арсеналы, особенно за счет блокированных в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор гарнизонов сирийских повстанцев, которые были вынуждены или сложить оружие, или перейти на сторону ИГ. До этого оппозиция захватила базу 17-й дивизии в Ракке, где оставалось достаточно боеприпасов и военной техники, которая затем попала к ИГ. Скажем, в ноябре 2014 года только на сирийском фронте ИГ достоверно располагала 117 танками (21 – Т-72, 15 – Т-62, 81 – Т-55) и несколькими 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Основой огневой мощи соединений ИГ в Сирии были батареи, оснащенные 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30 (зафиксировано как минимум 20 таких орудий, но в действительности – в разы больше), 130-мм пушками M-46 (минимум 34 единицы), а также РСЗО БМ-21 «Град» (минимум 11 единиц).
Основным противотанковым средством соединений ИГ, кроме имевшихся в большом количестве гранатометов, выступали ПТРК-ПТУР «Конкурс». Хотя на вооружении ИГ были отмечены и иные образцы ПТРК – «Малютка», «Фагот», «Корнет», «ХОТ», но, вероятно, к «Конкурсам» было больше боезапаса. При этом в Сирии и Ираке ПТУР стали применяться настолько массово, что нередко использовались не только для поражения автомобилей и скопления живой силы, но и для контрснайперской борьбы.
Джихадистские соединения ПВО располагали большим количеством 23-мм спаренных ЗУ-23-2 пушек и 14,5-мм КПВТ. В то же время они способны лишь ограниченно противостоять вертолетам, а имеющихся у ИГ ПЗРК советского («Стрела-2»), китайского (FN-6) и северокорейского (Hwaseong-Chong) производства явно недостаточно для эффективного противодействия авиации международной коалиции или ВКС РФ.
Подчеркнем, что в настоящий момент сложно оценить, какой военной техникой располагает ИГ, из-за ее массовых потерь в 2016 году. Активная деятельность авиации коалиции и ВКС РФ не оставляет механизированным и бронетанковым подразделениям ИГ шанса для маневров, так как они становятся легкой добычей ВВС. Поэтому часть бронетанковой техники, прежде всего БМП-1, находила широкое применение в качестве «самоходных мин», управляемых смертниками. В основном все оказавшиеся в руках ИГ БМП переоборудовались в подобные «живые мины», в то время как в качестве транспортных средств ИГ предпочитало использовать легкие джипы-«технички» и НUMVEE.
Комплектование
В Сирии и Ираке комплектование осуществлялось за счет как местных резервов, так и «переселенцев» из иных стран и регионов, количество которых после провозглашения «халифата» увеличилось. При этом военная служба являлась добровольной, но в последнее время на фоне территориальных потерь на всех фронтах отмечается принудительная мобилизация молодежи, хотя формально это делается якобы с их согласия.
После того как с одной стороны Турция и подконтрольные ей отряды оппозиции, а с другой – курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии» закрыли сирийско-турецкую границу и оттеснили от нее ИГ, поток иностранцев в организацию значительно сократился. Однако и в настоящее время остается открытым один коридор для перехода в ИГ. Этот путь начинается в Турции и идет далее через контролируемые повстанцами районы провинции Идлиб и Хама, после чего желающие попасть в «халифат» должны перейти еще и трассу М-5 Дамаск – Алеппо, которую контролируют силы, лояльные Асаду. Пропускная способность такого маршрута очень низкая – буквально десятки человек, что не идет ни в какое сравнение с тем периодом, когда каждый месяц сирийско-турецкую границу переходили до 500–1000 будущих боевиков ИГ. Многих из пытающихся пробраться в ИГ арестовывают службы безопасности оппозиционных группировок в Идлибе. Радикалы из структуры «Хайат Тахрир аш-Шам», в которой растворилась «ан-Нусра», также проводят рейды по выявлению ячеек ИГ на подконтрольных ей территориях в провинции Идлиб.
В настоящее время неизвестно, остались ли еще какие-либо лагеря подготовки новоприбывших боевиков ИГ из числа как местных жителей, так и переселенцев. Ранее на подобных объектах все желающие стать «воинами халифата» должны были пройти курс идеологической и боевой подготовки: для «ансаров» (тех, кто родом из Ирака и Сирии) подготовка длилась 30–50 дней, для «мухаджиров» (переселенцев из других стран) – в течение 90 дней.
Боевые действия
Для захвата территорий ИГ использовало не только силовые методы, но и «мягкую силу». Сначала в городах создавались своеобразные миссионерские структуры, которые под прикрытием курсов арабского языка и религиозных лекций проводили разведку территории, включая сбор компромата на влиятельных членов племен, старейшин, командиров ополченских структур и отрядов оппозиции. Классический пример – захват Ракки: весной 2013 года, после взятия города сирийской оппозицией, там сначала появился «просветительский центр», затем туда стали потихоньку просачиваться бойцы силовой поддержки, а осенью – уже назначенный ИГ эмир на встрече с местными старейшинами и представителями повстанцев потребовал сдать город.
Действия ИГ непосредственно в бою похожи на тактику повстанческих и террористических групп, разница только в высокой дисциплине и мотивированности бойцов, а также в некоторых приемах, которые хорошо отточены боевиками. В целом наступательные действия ИГ строились по следующей схеме: артподготовка – массированный огонь для прикрытия движения «шахид-мобилей» (цель которых – вскрыть оборону противника) – массированный огонь с основного направления для выдвижения штурмовых групп с флангов. При этом в боях, конечно же, применяются уловки вроде переодевания в форму противника. Например, в боях за Ракку группа исламистов, маскируясь под курдских бойцов YPG, неожиданно атаковала реальных курдов.
В оборонительной тактике упор делается на массированный снайперский огонь (в Ракке винтовки получили даже люди, которые работали в административных органах «халифата»), использование подземных коммуникаций, применение смертников и постоянные контратаки. При этом иностранцы, которые не могут просочиться под видом местных жителей, сбрив бороды, как правило, стоят до конца, а местные часто выполняют роль «второго эшелона». То есть устраивают диверсии в уже освобожденных районах города.
Формально бойцов ИГ на поле боя (в том числе при проведении диверсии или теракта) можно разделить на три типа, которые, в свою очередь, делятся на подтипы: это собственно «пехота» с легким стрелковым оружием, РПГ и ПТРК; «истишхади» – смертники для прорыва обороны противника и причинения ущерба его живой силе; «ингимаси» – «взрывающиеся» штурмовики, подготовленные бойцы для операций и действий на сложных направлениях, которые носят «пояса» смертников, но подрывают их только при необходимости. Скажем, в №11 журнала ИГ «Румия» комбинированные атаки в Тегеране описаны следующим образом: первая группа «истишхадиев» – подорвали себя у мавзолея Хомейни, вторая группа «ингимасиев» из трех человек атаковала здание парламента.
Таким образом, сильное оружие ИГ – это высокомотивированные бойцы, которые для обороны города нередко дают «присягу на смерть», составляющие мобильные группы. Как только ИГ переходило от «терзающей» тактики маневренных отрядов к операциям с привлечением сравнительно большого количества живой силы и техники, они быстро проваливались из-за массированных ударов авиации.
Статья опубликована в издании "Новый оборонный заказ. Стратегии": http://dfnc.ru/yandeks-novosti/voennaya-struktura-islamskogo-gosudarstva/
Фото: из открытых источников
[1] http://carnegie.ru/commentary/71349
[2] http://www.aymennjawad.org/2015/06/islamic-state-training-camps-and-military
[3] https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/02/16/tip-of-the-spear-meet-isis-special-operations-unit-katibat-al-battar/
[4] http://www.aymennjawad.org/2016/01/an-account-of-abu-bakr-al-baghdadi-islamic-state
[5] http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-iraq-foreign-fighters-return-europe-refusing-fight-sick-notes-a7567131.html ,
[6] http://www.ayn-almadina.com/details/The%20Military%20Structure%20of%20the%20%22%20Islamic%20State%20%22%20in%20%22Wilayat%20al-Khair%20%22%20%28Deir%20ez-Zour%20province%29%20%20%20%20/2998/ar
[7] http://www.naharnet.com/stories/en/180602-pm-says-iraq-lost-2-300-humvee-armored-vehicles-in-mosul
Истоки и движущие силы вооруженного экстремизма и радикализации на Ближнем Востоке (на региональном уровне и на примере Туниса)
 Статья поднимает проблемы терминологии и отнесения тех или иных организаций на Ближнем Востоке к вооруженным экстремистам, выделяя три типа исламистских группировок, обладающих существенной спецификой в этом отношении. Наиболее явными причинами и условиями формирования экстремистских организаций в регионе названы ослабленная или разрушенная государственность, неспособность правительства удерживать монополию на легитимное насилие в разделенных обществах и наличие или восприятие постоянной внешней экзистенциальной угрозы. На примере Туниса исследован вопрос о том, почему вооруженный экстремизм проявляется и в обществах, гомогенных в этноконфессиональном отношении, обладающих устойчивой национальной идентичностью и сумевших сформировать развитую политическую систему. В качестве причин идентифицирован дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, трудности в позитивной самореализации в рамках действующей системы. Вместе с тем развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или на ее периферию.
Статья поднимает проблемы терминологии и отнесения тех или иных организаций на Ближнем Востоке к вооруженным экстремистам, выделяя три типа исламистских группировок, обладающих существенной спецификой в этом отношении. Наиболее явными причинами и условиями формирования экстремистских организаций в регионе названы ослабленная или разрушенная государственность, неспособность правительства удерживать монополию на легитимное насилие в разделенных обществах и наличие или восприятие постоянной внешней экзистенциальной угрозы. На примере Туниса исследован вопрос о том, почему вооруженный экстремизм проявляется и в обществах, гомогенных в этноконфессиональном отношении, обладающих устойчивой национальной идентичностью и сумевших сформировать развитую политическую систему. В качестве причин идентифицирован дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, трудности в позитивной самореализации в рамках действующей системы. Вместе с тем развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или на ее периферию.
I. Вооруженный экстремизм и исламистские организации на Ближнем Востоке
Вооруженному экстремизму, джихадизму, такфиризму, террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке, посвящено сегодня множество трудов. Однако ключевым элементом проблемы остается выявление истоков этих явлений, которые, очевидно, еще недостаточно исследованы. Отчасти это связано с сопутствующей им размытостью, изменчивостью, политизированностью, которые препятствуют не только формулированию общепринятого универсального определения терроризма, но и последовательному разграничению понятий, связанных с ним. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что на Ближнем Востоке сегодня нет ни одной политической силы, которую кто-либо другой из региональных акторов не характеризовал как террористическую.
Если же отказаться от политизированного термина «терроризм» в пользу более нейтрального – «вооруженный экстремизм», или «насильственный экстремизм», то, по всей видимости, он должен указывать на деятельность политических акторов, обладающих тремя ключевыми признаками – негосударственным характером, радикальной идеологией (экстремизм), предполагающей отрицание существующей политической системы, и приверженностью насильственным формам борьбы.
Очевидно, что эти признаки на современном Ближнем Востоке присущи широкому спектру самых разных организаций. Помимо Аль-Каиды и подобных ей джихадистских группировок, речь может идти и о светских, в основном этнически ориентированных (этнонационалистических) организациях.
Исторически последние были представлены в регионе более широко и доминировали на протяжении более длительного времени, чем исламисты. Одни из них возглавляли когда-то национально-освободительную борьбу, другие – боролись против авторитарных режимов в 1950-е – 1960-е гг., но в случае прихода к власти устанавливали не менее авторитарные режимы.
Именно их наследниками считают себя действующие в целом ряде стран региона вне- и антисистемные силы, борющиеся за самоопределение тех или иных этно-национальных групп. К ним, например, относятся: «ПОЛИСАРИО», курдские организации в Турции и Сирии, светские палестинские движения и др.
Политический ислам, таким образом, не может считаться имманентной формой ближневосточных вооруженных экстремистских движений. Впрочем, даже если рассматривать исключительно спектр исламистских организаций, то в их развитии наблюдается сегодня такая быстрая динамика и они настолько дифференцированы, что зачастую проблематично определить, какие из них и на каком этапе могут считаться вооруженными экстремистами.
К таковым могут быть отнесены антисистемные структуры, открыто стремящиеся к разрушению существующей государственности вооруженным путем, а также разнообразные «милишиат» – вооруженные формирования, действующие на территориях ослабленных или развалившихся государств – в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене. Помимо них, однако, существует как минимум еще три вида исламистских структур, которые причисляются к вооруженным экстремистским организациям, но демонстрируют существенную специфику, и отнесение их к тому или иному типу требует существенных уточнений и оговорок.
Во-первых, это организации, которые, сохраняя собственные вооруженные формирования, не отказываются от легальных методов политической борьбы – Хизбалла (Ливан), ХАМАС (Палестинская Администрация), Ансаралла (Йемен) и др. У некоторых таких организаций военное подразделение формально отделено от политического крыла (руководства). Военное подразделение может находиться в глубоком подполье (как, например, по мнению египетских властей, в случае с местными «Братьями-мусульманами») или же, наоборот, формироваться специально для поддержания деятельности легального крыла организации, как это было в случае с Лигами защиты революции в Тунисе. Эти исламистские структуры сформировались после свержения правительства Бен Али в 2011 г. и прихода к власти умеренной исламистской партии Возрождения (“ан-Нахда”) для ее поддержки, но затем были запрещены.
Типологически, с точки зрения классической партологии,1 подобные политические организации наиболее близки национал-социалистическим партиям, популярным в Европе в 1920-е – 1930-е гг., в меньшей степени – коммунистическим движениям той же поры. Как правило, они входят в легальное политическое пространство, имея за плечами долгий опыт подпольной борьбы. Отсюда – хорошо продуманная структура, жесткая иерархия, общее недоверие к легальным методам борьбы, готовность вернуться в подполье и т.д. Если в Европе такие партии зачастую формировались на базе ветеранских объединений «потерянного поколения» Первой мировой войны, то на Ближнем Востоке актив такого рода структур нередко (хотя и не всегда) составляют джихадисты, имеющие за плечами опыт боевых действий. Наиболее яркий пример – полузабытый алжирский «Исламский фронт спасения», сформированный добровольцами, вернувшимися из Афганистана после участия в антисоветском джихаде 1980-х гг.
Однако в случае с Ансараллой и Хизбаллой имеет место попытка легализации вооруженных формирований, изначально отстаивавших интересы определенной – и притом значительной – части или группы местного населения, чувствовавшего себя ущемленным в политическом, социально- экономическом, конфессиональном и ином плане. Сама возможность формирования таких движений стала результатом слабости государственности, наличия прямой военной угрозы (в случае с Хизбаллой, сформировавшейся на юге Ливана в борьбе с израильской оккупацией), острой нехватки ресурсов, доминирования культуры насилия (в частности, в контексте войны правительства с хуситами в Йемене в 2000-е гг.) и сильной фрагментированности общества.
Все организации этого типа ориентированы на реализацию тех или иных политических проектов на национальном уровне. В этом плане, даже несмотря на то, что они обозначаются как исламистские, они лишены характерного для политического ислама универсализма. Исламизация всей общественно- политической жизни не относится к первостепенным задачам этих движений.
Во-вторых, неочевидна принадлежность к вооруженным экстремистским организациям откровенно джихадистского типа тех политических движений, которые борются за власть в условиях гражданской войны, пусть даже и взяв на вооружение радикальную идеологию. Наиболее яркими примерами этого являются разнообразные группировки сирийской оппозиции, в том числе «Джайш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам», а также ливийские политические движения «Фаджр Либия» и Бригады Мисураты. Определение этих движений как вооруженных экстремистов-джихадистов «работает» ровно до того момента, пока они не начинают рассматриваться как одна из сторон гражданской войны и процесса ее политического урегулирования. Споры относительно «номенклатуры» умеренной и радикальной оппозиции в Сирии, продолжавшиеся на протяжении 2015–2016 гг., демонстрируют всю относительность и подчеркнутую конъюнктурность этих характеристик.
Главным аргументом против отнесения организаций первого типа, описанного выше (ХАМАС, Хизбаллы и т. п.) к вооруженному экстремизму могут быть сомнения в экстремистском характере их деятельности (так как они не отрицает полностью действующую политическую систему). Однако применительно к организациям второго типа, уязвимым оказывается само понятие «вооруженный экстремизм», предполагающее жесткое оспаривание государственной монополии на насилие и власть. В ситуации гражданской войны правительство нередко не располагает ни тем, ни другим, поэтому даже если противостоящие ему силы принимают форму вооруженной оппозиции, они не могут считаться однозначно экстремистскими, пока продолжают бороться за власть в рамках существующей системы, а не требуют ее полного уничтожения (в отличие, например, от радикально-джихадистской и связанной с аль-Каидой «Джабхат аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра»).
Наконец, третья группа организаций, которую трудно «сузить» до какого-то одного типа – это структуры, предполагающие не только вооруженную борьбу против существующей власти и не только стремящиеся к полному уничтожению существующей системы (и в этом смысле экстремистскими), но и пытающиеся создать альтернативную государственность на контролируемых территориях. Наиболее известным примером здесь остается ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ – «Исламского государства в Ираке и Леванте»). В середине 2010-х гг. ДАИШ сумела не только установить военный контроль над значительными территориями в Ираке и Сирии (до того, как под ударами различных местных сил и двух международных коалиций начала постепенно его терять), но и наладить на них относительно эффективную систему административного и экономического управления. Очевидно, что ДАИШ – это сложный, многосторонний и комплексный феномен, сочетающий в себе мощный потенциал вооруженного экстремизма с функциями квазигосударственного образования.
Описать причины формирования экстремистских организаций в условиях ослабленной или разрушенной государственности, неспособности правительства удерживать монополию на легитимное насилие в глубоко разделенных обществах2 или существования постоянной внешней экзистенциальной угрозы не сложно, так как они во многом очевидны. Интереснее обратить внимание на общества, считающиеся гомогенными в этноконфессиональном отношении, обладающие выраженными признаками национальной гражданской идентичности и сумевшие сформировать развитую и модернизированную политическую систему, довольно успешно отвечающую на внутренние и внешние вызовы современности. Трудности с тем, чтобы объяснить, почему вооруженный экстремизм может быть популярен в значительной части таких обществ, по всей видимости, говорят о не полном и не вполне адекватном понимании нами ближневосточной социальной реальности. Наиболее яркий пример таких обществ дает Тунис.3
II. Тунис: внутриполитическая радикализация и ДАИШ
По некоторым данным, к осени 2016 г. в рядах ДАИШ сражалось порядка 7000 тунисцев,4 составивших, таким образом, самый многочисленный контингент иностранных боевиков, приехавших в Сирию из арабских стран. Кто- то из них погиб, кто-то остался в Леванте, а кто-то вернулся на родину. Осенью 2016 г. вернувшихся было уже около 700 человек,5 и эта тема оказалась в центре общественных дискуссий как из-за связанных с ней этических вопросов, так и из-за проблемы ответственности государства в части определения их дальнейшей судьбы: должно ли государство прилагать усилия к их реинтеграции в общество или же судить их как террористов.
Социологический портрет джихадистов
Несмотря на то, что до сих пор не существует исследований (по крайней мере, в открытом доступе), позволяющих составить социологический портрет тунисских добровольцев в рядах ДАИШ, кое-что о них сказать можно.
В большинстве случаев речь идет либо о выходцах из бедных кварталов больших городов, либо об уроженцах внутренних (периферийных, маргинализированных) регионов страны,6 где исторически сильны салафитские настроения – прежде всего, таких приграничных территорий, как Бен Гардан, Кассерин, Булла Реджа и др. Несмотря на очевидные различия между этими двумя категориями (маргинализованная городская молодежь более модернизирована, чем население внутренних регионов), их объединяет многое, и прежде всего – «разряженная» социальная среда. На их примере видно, что джихадистская идеология оказывается тем более востребованной, чем более острый дефицит наблюдается в институтах социализации. В этом отношении ситуация как в бедных пригородах гг.Тунис, Сфакс или Сус, так и во внутренних регионах схожа: и там, и там неразвитость систем основного и дополнительного образования, отсутствие культурно-досуговых центров для молодежи накладывается на деградацию и делегитимизацию традиционных социальных институтов (прежде всего, суфийских центров – т. н. завий).7
Характерно, что в тех районах, где сохраняется престиж такой распространенной в странах Магриба формы «народного ислама», как марабутизм (культ наследственных святых – марабутов) или же пользуются популярностью ультралевые идеи (например, в Редейефе в вилайете Гафса на юго-востоке Туниса), джихадистская пропаганда оказывается значительно менее успешной.
Вместе с тем, «спасительную» роль существующих институтов самоорганизации общества также нельзя преувеличивать – некоторые из них сами по себе легко становятся каналами радикализации даже в том случае, если выстраиваются на том или ином религиозном или идеологическом базисе. И хотя в самом Тунисе подобных примеров не наблюдается, опыт мюридизма на Северном Кавказе или тариката Накшбандийа в Ираке, ставшего союзником ИГИЛ, говорит в пользу такой возможности. Таким образом, дело не столько в самом существовании институтов социализации, сколько в их способности предлагать ненасильственные стратегии достижения социального успеха, а это, в свою очередь, уже ставит вопрос о легитимности насилия в конкретных общественных обстоятельствах.
Как и в западных странах, и в России, в Тунисе особым пространством индоктринации молодежи джихадистскими идеями становятся тюрьмы и криминальные группы. Причем, если в случае с городскими жителями речь идет о молодежных бандах выполняющих роль каналов социализации (и иногда возникающих, например, на базе спортивных секций), то в случае с внутренними регионами можно говорить о радикальной исламизации существующих криминальных сетей, связанных, в частности, с трансграничной контрабандной торговлей.
Так, во внутренних регионах возникает своеобразный треугольник параллельной государственности: институты теневой экономики, изначально увязанные с традиционными социальными институтами, укрепляются посредством салафитской идеологии, с одной стороны, и джихадистской террористической практики, с другой. В сущности, речь идет о начальной стадии того же процесса, который ранее наблюдался в пустыне Анбар (Ирак) и в Афганистане и привел к формированию двух наиболее известных вариантов радикально-исламистской квазигосударственности (ДАИШ/ИГИЛ и Талибана). Впрочем, в обоих случаях это стало возможным только в условиях катастрофического разрушения государственных институтов, скатывания всей общественной жизни в рутину насилия, заменившую любые иные механизмы социального саморегулирования, и необходимости укрепления этноконфессиональных групп солидарности на фоне резкого роста конфликтности. Собственно, именно ролью этнонационального элемента в государственном строительстве ИГИЛ и Талибан, в основном, и различаются.
Таким образом, как в случае с люмпенизированной городской молодежью, так и в случае с выходцами из депрессивных регионов по-разному идущая джихадистская социализация оказывается в итоге предпосылкой для последующей эмиграции в ИГИЛ (хотя и не всегда ведет именно к ней).
Другая группа молодых адептов идеологии вооруженного джихада формируется за счет совершенно иных слоев населения – выпускников университетов и представителей творческой интеллигенции, иной раз даже вполне успешных на родине. И хотя выходцы из более или менее привилегированных слоев тунисского общества становятся джихадистами реже, чем бедняцкая молодежь,8 террористические организации, остро заинтересованные в повышении качества своих человеческих ресурсов, ведут с этими слоями населения целенаправленную работу – прежде всего, в университетской среде.9
Вовлечение студенчества и творческой молодежи в радикализм и вооруженный экстремизм связано с разными обстоятельствами и ведет к неоднозначным последствиям. В случае со студентами и выпускниками вузов речь идет, прежде всего, об инженерах. По оценкам тунисских специалистов, около 60% местных джихадистов получили техническое образование,10 что подтверждает более широкую статистику по исламистским террористическим организациям.
Так, Д.Гамбетта и Ш.Хертог, изучив биографии 497 членов вооруженных исламистских групп (в основном за пределами стран Магриба), действовавших с 1970-х гг., т.е. еще задолго до внезапного подъема ИГИЛ, пришли к следующим выводам.11 Авторы смогли установить подробные биографические данные для 335 человек. Из них начальное и среднее образование получили, соответственно, 28 и 76 человек, высшее (в том числе незаконченное) – 231, причем 40 человек прошли обучение в западных вузах. Таким образом, в целом уровень образования в террористических организациях оказался выше, чем в тех обществах, к которым принадлежат их активисты,12 хотя в последние годы он постепенно снижается. В 93 случаях речь шла о лицах с инженерным образованием, в 38 – с высшим религиозным, в 21 – с медицинским, в 12 – с финансово-экономическим, в восьми – с медицинским и ествественнонаучным, в шести – с гуманитарным и в пяти случаях – с юридическим образованием.
Сверхпредставленность инженеров среди членов исламистских организаций террористическо-джихадистского толка – общая для всех изученных Д.Гамбеттой и Ш.Хертогом случаев (за исключением Саудовской Аравии). Этот феномен объясняется тремя причинами. Во-первых, спецификой выборки. В основном, доступные биографические данные касались тех активистов, которые участвовали в террористических актах, получивших определенный резонанс. Само проведение подобных атак, как правило, требовало специальной подготовки (навыков изготовления бомб и т.п.). Впрочем, в последнее время очевидна тенденция к технологической примитивизации терактов. Об этом свидетельствуют трагедия в Ницце в июле 2016 г., множественные нападения с ножами на военных и полицейских в разных странах и регионах мира в 2015–2016 гг., теракты в Тунисе в 2015 г. и др. Во-вторых, спецификой рекрутинга – террористические группы по очевидным причинам заинтересованы, прежде всего, в технических специалистах,13 причем, несмотря на нарастающую роль онлайн-пропаганды, личные контакты остаются важным каналом вербовки. Наконец, в-третьих, свою роль здесь играют и особенности мировосприятия некоторых выпускников соответствующих факультетов. Если вывести за скобки религиозных деятелей, увлеченных «теологией джихада» по богословским причинам, профессиональная подготовка представителей остальных профессий (за исключением гуманитариев и отчасти экономистов) отличается специфически инструменталистским отношением к реальности,14 неготовностью принимать возможность плюрализма, диалектику социальной реальности, многогранность многогранность и относительность истины.
Что касается представителей творческих профессий, то, несмотря на то, что они слабо представлены среди радикалов, уехавших в Сирию и Ирак воевать за или работать на ДАИШ, сам публичный характер деятельности и известная популярность в молодежной среде делают каждый подобный случай особенно резонансным. Если присутствие в рядах вооруженно- экстремистской/военной организации инженерно-технического персонала имеет важное значение для ее материально-технического и логистического обеспечения (не говоря уже о ее квазигосударственных амбициях и функциях), то привлечение творческой интеллигенции превращает ДАИШ в своеобразный культурный проект, возможно, даже способный порождать новые, радикальные культурные смыслы, нормы и ценности,15 последствия чего оценить сложно.
Наконец, следует упомянуть о еще одной группе адептов джихада – о девушках, встающих на путь так называемого «секс-джихада» (джихад никах), то есть тех, кто уезжает в Сирию и Ливию, для того чтобы стать спутницами жизни «муджахидов». Точных данных ни о количестве девушек, выбравших подобное «служение», ни об их социальных характеристиках пока не существует. Само выделение подобной категории вызывает вопрос – можно ли с уверенностью утверждать, что в данном случае существуют специфически гендерные, сексуальные или матримониальные мотивации или же дело сводится к банальному сексизму наблюдателей. Имеет смысл исходить из того, что возможность найти спутницу жизни (или, по крайней мере, реализовать свои сексуальные потребности) играет немаловажную роль и для молодых людей, а девушки, в свою очередь, могут воспринимать партнерство (брак, семейную жизнь) с адептами ИГИЛ как единственный доступный им способ служения «высоким» идеалам.
Следует отметить, что описанные выше категории выделяются по совершенно разным признакам и, в принципе, могут пересекаться. Ничто не мешает какому-нибудь тунисскому рэпперу (!) быть одновременно студентом инженерного факультета, происходить из бедного квартала, мечтать изменить свое матримониальное положение и в итоге примкнуть к ДАИШ.
Мотивы радикализации и джихадизации
Очевидно, для классификации представителей экстремистских группировок и террористических организаций определение тех мотиваций, которые толкают часть молодежи к радикализации, важнее, чем выделение значимых социальных признаков. Впрочем, и к выявлению таких мотиваций следует относиться с осторожностью – в отсутствие репрезентативных социологических интервью с объектами исследования речь неизбежно идет о более или менее умозрительных конструкциях, зачастую указывающих не столько на истинные мотивы примкнувших к джихаду в лице ДАИШ, сколько на мотивы, приписываемые им обществом.
Если собрать все доступные истории о молодых людях, уехавших воевать за ДАИШ, то можно заметить, что им свойственны одни и те же мотивы, во многом напоминающие мотивы русской «воровской песни». Неизменны сочувствие рассказчика к герою повествования, сентиментальный тон, тема несправедливости власти, жестокости полиции, бессмысленности существования на родине. Истоки этих мотивов, впрочем, вполне объяснимы следующими социальными условиями, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: « – Почему ДАИШ популярен в твоем квартале? – Ну как почему? Тут же у молодежи никакого будущего, тут нет денег, тут везде полиция. Тут нет свободы, а там есть».
Такое объяснение популярности джихадистов встречается довольно часто, причем предлагают его даже люди, совершенно чуждые идеологии глобального джихада. «Нравится ли мне ДАИШ? Да брось. Я с Баб Суика,16 у меня отец маляр, мать не работала никогда, мы бедные. Когда мне было шестнадцать, я торговал сигаретами на улице, когда стало восемнадцать, танцевал брейкданс, потом был рэппером, сейчас снимаю скетчи. Я не хочу быть шахидом. Я хочу быть артистом и сценаристом. У меня будет будущее, будут деньги, сам увидишь», – откровенничает тот же собеседник, что говорил о «свободе» в ДАИШ. Год спустя он получит контракт сценариста от крупной телекомпании и забудет друзей с Баб Суика.
Среди расхожих объяснений массовой эмиграции молодежи в районы, контролируемые ДАИШ в Сирии и Ираке, преобладают две, во многом, повторяющиеся модели, обычно предлагающиеся и для объяснения причин тунисской революции 2011 г.
Одна модель, условно марксистская, основывается на социально- экономической детерминированности социального поведения. Другая, условно либеральная – на ценностно-психологической. В первом случае, соответственно, акцент делается на бедности и невозможности экономической самореализации молодежи; во втором – на ценностном кризисе переходного общества. Очевидно, что первая модель лучше объясняет поведение бедняков, вторая – просвещенного класса, однако обе они недостаточны. С практической точки зрения, причины присоединения к ДАИШ, как представляется, могут быть подразделены на «негативные» и «позитивные».
К негативным мотивациям относятся те, что заставляют молодых людей отвергать существующую реальность, присоединяясь к антисистемному движению. Прежде всего, речь идет об отчуждении от государства и порождаемом этим отчуждением остром чувстве несправедливости и несвободы. Парадокс в том, что само государство, представленное конкретными режимами, за прошедшие годы изменилось мало. Полвека назад оно не было ни демократичнее (Х.Бургиба – глава государства в 1957–1987 гг., был провозглашен пожизненным президентом Туниса еще в конце 1970-х гг.), ни «народнее», или аутентичнее (достаточно вспомнить кадры, запечатлевшие, как первый президент Туниса насильно снимал с женщин платки после подписания Кодекса гражданского состояния), ни честнее, или прозрачнее (хотя президент Бургиба после отставки и жил на одну пенсию, этого не скажешь о его окружении). Иными словами, если пытаться объяснить резонанс современного феномена ИГИЛ у части мусульманской молодежи коррумпированным, недемократичным и «неоколониальным» характером государства, или правящего режима, то ведь оно было таким на протяжении десятилетий (тогда, когда еще не существовало никакого ДАИШ). Скорее, изменилось само общество: многое из того, что в свое время мог себе позволить Х.Бургиба, вряд ли сегодня было бы воспринято как должное. Модернизированная молодежь требует участия в политической жизни и признания своей роли в судьбе страны со стороны власти, а не получая желаемого, обостренно чувствует и несвободу, и несправедливость и пытается найти ответ в радикальном фундаментализме. Так, парадоксальным образом, неприятие существующей системы и отказ от нее в пользу архаики становится следствием не столько отсталости общества, сколько, наоборот, его относительной, хотя и неравномерной модернизации.
Важную роль здесь играет дисбаланс институционального развития. Порожденный незавершенностью модернизационного проекта, он проявляется в состоянии перманентного полураспада традиционных социальных институтов и хроническом дефиците развития современных институтов. Такое сочетание весьма неблагоприятно для эффективного управления и ведет к ограничению его возможностей.
Подобная ситуация сохраняется не только в Тунисе или на Ближнем Востоке в целом, но и в большинстве государств и обществ переходного типа на протяжении столь длительного периода, что она начала восприниматься как естественное положение дел, не лишенное даже определенных плюсов (с этим представлением, например, связана как теория многоукладности, так и современные трактовки «азиатского способа производства»). Так, согласно распространенному подходу, такая ситуация создает условия для социального контракта, условно предполагающего обмен политических прав и свобод на безопасность и экономическое развитие.17 Впрочем, можно ли говорить о подобном контракте применительно к еще в значительной степени традиционному обществу, пусть и переживающему модернизация, но зачастую не подозревающему о существовании «естественных прав и свобод» – большой вопрос. Как бы то ни было, внутренняя хрупкость институтов и узкие пределы их развития, заложенные в самой социально-политической архитектуре, становятся важным фактором отчуждения общества (или его значительной части, включая молодежь) от государства.
Вместе с тем наивно предполагать, что эта проблема может быть решена чисто техническими средствами, то есть посредством создания политико- правовых условий для развития демократических институтов. Дело не в отсутствии этих условий, а в сформировавшейся за годы протектората, а затем и в период независимости псевдо-сословной структуре общества, где полицейский и бюрократический аппараты оказываются жестко отделенными (практически изолированными) от остальных групп.18 Подобная разделенность общества по-своему не менее глубока, чем этноконфессиональные различия в ряде стран Машрика (арабских стран Ближнего Востока восточнее Ливии) и превращает формально демократические институты в инструменты закрепления прав и привилегий отдельных групп.
Описанная ситуация становится причиной кризиса доверия, характерного, например, для тунисского общества. В Тунисе речь пока идет не столько об атомизированности социума, что, по мнению Х.Арендт, служит ключевой предпосылкой для формирования тоталитаризма, сколько о растущем недоверии между различными социальными группами, умножении линий социального раскола и постепенном сужением для каждой группы круга «своих».
Отчуждение и недоверие к государству и обществу порождает другую важную негативную причину эмиграции радикально настроенных элементов – это неверие в возможность улучшения материальных условий существования, значимость которых в общественном сознании в последние годы чрезвычайно возросла. Основную роль тут сыграли деидеологизация политических режимов, затронувшая в конце ХХ – начале XXI в. большинство арабских государств- импортеров нефти, и приобретение правящими режимами постмодернистского характера, когда правящие элиты для достижения прагматических целей использовали элементы самых разных идеологических дискурсов.19 Такая идеологическая эклектика в совокупности с (нео)либеральной экономической политикой вела к формированию общества потребления, развитие которого, однако, в отличие от стран Запада, не было обеспечено экономическим потенциалом, что становилось причиной острой фрустрации молодежи.
Наконец, помимо материальных условий, речь может идти и об отсутствии перспектив самореализации на родине – как социальной, так и гендерной.
Что же касается «позитивных» мотиваций, включающих в себя притягательные элементы «воображаемого» ИГИЛ, то они лишь отчасти могут рассматриваться как прямой ответ и противоположность («антоним») негативным мотивациям, обладая собственной спецификой. Среди них, конечно, есть надежды на решение конкретных жизненных вопросов, но они, по всей видимости, все же играют второстепенную роль. Важнее то, что удручающей картине действительности противопоставляются туманные, но оттого особенно будоражащие воображение образы «иной жизни», а конкретным условиям бытия – некие возвышенные смыслы и ценности. Среди них – участие в глобальном проекте построения «нового будущего» и связанная с ним возможность вступления в братскую общность «избранных». Идея строительства нового мира плечом к плечу с соратниками оказывается ответом на целый ряд негативных мотиваций: на отчуждение от государства, тотальное недоверие, переоценку материального фактора и т. п.
Участие в строительстве нового будущего связано, с одной стороны, с романтикой героической борьбы и приключений, что позволяет повысить самооценку молодых людей, а с другой, – с принятием внятно артикулированной системы ценностей, предлагающей понятные алгоритмы для любой ситуации выбора.
Не вполне ясно, какую роль здесь играют почти неизбежная необходимость участия в насильственных акциях и высокая вероятность гибели. Для кого-то, конечно, они сами по себе могут быть весомыми факторами привлекательности радикального джихадистского проекта, но представляется, что основное их значение состоит в повышении его ценности, которая прямо пропорциональна вызываемому медиа-эффекту актов насилия и болезненности общественной реакции на них. Насилие при этом мыслится его участниками либо как акт вынужденной обороны против «убивающих мусульман крестоносцев» (представителей Запада), либо как проявление милосердия в отношении грешников (многобожников, христиан, «рафидитов» (шиитов) и т. п.). В последнем случае наказание и смерть избавляют грешника от греха и, следовательно, уменьшают его потусторонние страдания.
Кроме того, тот факт, что откровенные зверства, совершаемые джихадистами, не только не вызывают отторжения у таких молодых людей, но и, кажется, вообще оставляют их более или менее равнодушными, по всей видимости, объясняется несколько иным отношением к насилию как таковому в народных кварталах. Драки на ножах тут можно увидеть в любое время суток и повсеместно, исполосованные шрамами руки и тела – норма: «Вчера двое поссорились из-за места на рынке, один другого пырнул ножом».
В южных, близких к ливийской границе регионах толерантность к насилию имеет несколько иные корни, но сути дела это не меняет: «А что ДАИШ? Да мы в Ливии все – ДАИШ. У нас нет никакой культуры диалога, мы сразу режем друг друга» – признается высокопоставленный чиновник «Фаджр Либия».20
Механизмы вовлечения и вытеснения
Помимо негативных и позитивных причин радикализации молодежи вплоть до эмиграции в контролируемые ДАИШ районы в Сирии и Ираке, необходимо упомянуть о специфических механизмах целенаправленного вытеснения радикалов, с одной стороны, и о технологиях их вовлечения в вооруженно- экстремистскую деятельность, с другой. При этом, если с технологиями вовлечения все более или менее ясно (пропаганда в интернете, личная вербовка и т. д.), то с механизмами вытеснения дело обстоит сложнее.
Если в движениях «глобального джихада» – не только в ИГИЛ, но и в Аль- Каиде – тунисцы всегда были представлены довольно широко, то внутри страны дело обстояло иначе. Подрыв смертника в синагоге на Джербе в 2002 г. и активность «Армии Асада ибн Фурата», вылившаяся в 2007 г. в перестрелку в Солимане неподалеку от Набеля, для Туниса стали событиями из ряда вон выходящими. В то время как перестрелка долго квалифицировалась как простой бандитизм и не оставила глубоких следов в общественной памяти, теракт в синагоге до сих пор воспринимается очень болезненно. В обоих случаях исполнители терактов были не только вдохновлены зарубежным опытом, но и подготовлены за границей. Низар Науар, подорвавшийся в синагоге, получил образование в Канаде и провел некоторое время в Афганистане. «Армия Асада ибн Фурата» вышла из печально знаменитой алжирской Салафитской группы проповеди и джихада, бойцы которой нелегально проникли в Тунис в 2006 г.
Высокий уровень безопасности в стране привычно объяснялся эффективностью силовых структур режима Зин аль-Абидина Бен Али (президент Туниса в 1987–2011гг.) и стал одним из наиболее весомых аргументов в оправдание авторитаризма. Вместе с тем, политологи либерального толка, напротив, считали, что именно авторитаризм, препятствуя деятельности системной оппозиции, подпитывал экстремистские группировки.
После смещения режима Бен Али в 2011 г. ситуация изменилась. Тунис столкнулся с тремя основными угрозами общественной безопасности:
– повседневной преступностью, с которой не могло справиться переходное правительство «Тройки» (в составе умеренно-исламистской «ан- Нахды», близкого к ней Конгресса за республику и социал-демократической партией «ат-Такаттуль»),
– деятельностью салафитов (Лиги защиты революции, «Ансар аш-шари‘а» и т. п.), нападавших на представителей светских сил,
– активностью джихадистов – нескольких группировок, заявлявших о своих связях с «Аль-Каидой в странах Исламского Магриба» или с ИГИЛ.
Впрочем, не всегда было можно отделить салафитов от джихадистов. Так, например, организация «Ансар аш-шари‘а», действовавшая, в основном, мирными средствами и даже поддержанная на своем первом съезде весной 2011 г. некоторыми членами руководства «ан-Нахды», в сентябре 2012 г. оказалась замешана в нападении на посольство США, последовавшее за трансляцией фильма «Невинность мусульман» и приведшее к четырем жертвам. Лидером этой структуры был ветеран Афганистана Сайфалла бин Хасин, более известный как Абу Ийяз и даже фигурировавший в нашумевшей в свое время композиции тунисского рэппера Weld El-15 (Ала Якуби) «Менты с*ки». В августе 2013 г., на фоне разраставшегося в стране политического кризиса, эта организация, наконец, была квалифицирована как террористическая (равно как и отряды Лиги защиты революции, ранее заявлявшие о себе чуть ли не как о милиции «ан-Нахды»).
Вообще составить четкий перечень экстремистских организаций в Тунисе довольно затруднительно – многие из них были однодневками, какие-то лишь декларировали свою принадлежность к известным «брендам», другие, действительно, были с ними связаны и исторически, и организационно. Кроме того, во многих случаях речь шла о раскрытии деятельности мелких джихадистских ячеек, не аффилированных явно с какими-либо структурами.
Несмотря на всю опасность терроризма, в первые годы после революции наибольший дискомфорт обществу доставлял, скорее, обычный криминал, радикальные салафиты, стремившиеся к исправлению нравов посредством громких акций, вроде нападений на кинотеатры, транслировавшие, с их точки зрения, недозволенные фильмы или на активистов светских сил. Несмотря на то, что эти акции редко приводили к жертвам, сама их рутинность создавала в обществе постоянное ощущение небезопасности и страха.
Формирование по итогам Национального диалога правительства технократов Махди Джомаа в 2014 г. изменило ситуацию – было восстановлено нормальное взаимодействие между силовыми и административными структурами, после чего полиция довольно быстро навела определенный порядок на улицах, и в целом ощущения безопасности в стране стало больше.
Поначалу это никак не повлияло на деятельность джихадистов. Однако вскоре борьба с ними стала лейтмотивом деятельности правительств Мехди Джомаа и особенно Хабиба Эссида, сформированного по итогам выборов 2014 г. В 2014 – начале 2015 г. СМИ регулярно объявляли о раскрытии органами безопасности деятельности террористических групп и арестах джихадистов. Правда, насколько речь шла о реальной угрозе, а насколько – об охоте на ведьм и стремлении вернувшихся во власть старых элит дискредитировать исламистов, остается под вопросом. В народных кварталах полиция усилила наблюдение за посещением жителями мечетей (как это было и при Бен Али). Аресты салафитов стали обычным делом, а многие молодые люди сменили афганского покроя платье на джинсы и футболки. Правозащитники вновь завели речь о политических репрессиях, предупреждая, что тюремное заключение умеренных, мирных салафитов может становиться путем к их радикализации и превращению в убежденных джихадистов.
Некоторые теракты предотвратить не удавалось, а отдельные районы в глубинке, став настоящими бастионами джихадизма еще весной-летом 2013 г., при правительстве во главе с членом руководства «аль-Нахды» Али аль-Арайидом, так ими и оставались. Собственно, таких районов было два – горы Ша‘амбия в центре страны и приграничная область вилайета Джендуба. В Ша‘амбии жертвами обычно становились местные крестьяне, неосторожно забредавшие на «запретные» земли при выпасе скота и не раз подрывавшиеся там на минах. В Джендубе же террористические группировки были тесно увязаны с тунисско-алжирской контрабандной торговлей, а сами атаки, совершавшиеся, в основном, против представителей власти, напоминали тактику алжирских джихадистов. Например, переодетые в полицейскую форму террористы могли остановить автомобиль полиции и расстрелять пассажиров и водителя. При всех различиях между группировками, и те, и другие вели, по их понятию, «оборонительный джихад», защищая либо занятые ими районы, либо свои коммерческие интересы.
Однако постепенно характер действий террористических группировок джихадистского типа начал меняться – в них появилась определенная согласованность. Так, 15 июня 2015 г. одновременно произошло два нападения на сотрудников полиции – в Джендубе и в Кассерине. Правительство обвинило тогда «Бригады Укбы ибн Нафи‘а» – группировку, которая и раньше совершала подобные преступления, однако одновременно с этим ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство». Тогда же, весной и летом 2015 г., произошло два наиболее резонансных теракта, не только приведших к множеству жертв, но и существенно подорвавших экономику страны.
Первый из них – это нападение на туристов в музее Бардо, случившееся 18 марта 2015 г. В тот день два или три террориста, вооруженные автоматами Калашникова, гранатами и начиненными взрывчаткой поясами попытались проникнуть в здание парламента, где должны были проходить слушания по законопроекту о борьбе с терроризмом. Однако поняв, что пробраться через полицейские кордоны им не удастся, террористы направились в музей, расположенный в другом крыле того же дворцового комплекса. Там они открыли стрельбу по туристам, выходившим из автобуса, и прошли в здание. Вскоре полиции удалось освободить здание музея от террористов. Жертвами атаки стал 21 турист и один полицейский. Два террориста погибли в ходе спецоперации. О том, что был и третий, которому удалось сбежать, позже заявил президент Бежи Каид ас-Себси. В тот же день многочисленные пользователи Facebook установили себе аватар “Je suis Bardo” (по аналогии с “Je suis Charlie” и другими “Je suis...”), а на столичный бульвар Бургибы вышли тысячи жителей.
Тот факт, что теракт в музее Бардо стал первым терактом, направленным против иностранцев и был совершен в самом сердце страны, привлек к нему внимание международного сообщества, ранее остававшегося равнодушным к деятельности тунисских террористических группировок. Следствием теракта стало резкое сокращение туристического потока – в первые дни после трагедии было отменено порядка 60% броней гостиниц. Вместе с тем, реакция на теракт самого тунисского общества отличалась от других арабских стран и больше походила на европейскую: смена аватаров в социальных сетях, марш солидарности и т. п.
Второй крупный теракт произошел в портовом городе портового города Суса 26 июня того же года и имел еще больший резонанс. В тот день на пляже напротив отеля “Imperial Marhaba”, располагающегося в туристическом городке Порт-Эль-Кантауи под Сусом, появился молодой человек в шортах и майке. Позже следствие установит, что его звали Сейфаддин Резги, что он был уроженцем маленького городка под Силианой и происходил из бедной семьи. Он учился в магистратуре Кайруанского технологического института на инженера. По сведениям полиции, за границей он не бывал (о его поездке в Ливию выяснилось лишь позднее) и ни в чем подозрительном замечен не был. Сейфаддин прогулялся по пляжу, расчехлил пляжный зонтик и вытащил автомат Калашникова. Кто-то из выживших рассказывал потом, что первые выстрелы люди приняли за взрывы петард и даже не пошевелились. Через несколько мгновений у бассейна раздался грохот разорвавшейся гранаты. В результате теракта погибло почти 40 человек, а более 30 было ранено. Той же ночью «Исламское государство» объявило через Твиттер, что теракт был совершен бойцом ИГ Абу Яхьей аль-Кайруани (имя, данное ИГ Сейфаддину).
Трагедия в Сусе, повергшая страну и мир в еще больший шок, чем стрельба в Бардо, и соответственно имевшая еще более тяжелые последствия для тунисской экономики, интерпретировалась в контексте деятельности ДАИШ. Распространенная точка зрения состояла в том, что тунисские джихадистские структуры оказались интегрированы в глобальную террористическую сеть, а главной их задачей стала полная дестабилизации ситуации в стране посредством обрушения ее экономики.
Эти теракты заставили правительство пересмотреть подходы к обеспечению национальной безопасности. С одной стороны, оно вынуждено было ускорить диверсификацию внешнеполитических связей. В Москву был назначен военный атташе, с США подписан договор о союзничестве вне рамок НАТО. По неофициальным признаниям правительственных чиновников, именно американская помощь позволила качественно улучшить охрану границы Туниса с Ливией и вообще более или менее обеспечить определенный уровень национальной безопасности. Одновременно с этим усилилось сотрудничество правительства с ушедшей в 2014 г. в оппозицию исламистской партией «ан- Нахда», руководство которой, стремясь отмежеваться от радикалов и доказать свою приверженность республике, было готово выполнять для тунисского правительства некоторые деликатные миссии, особенно в Ливии. Они были связаны, главным образом, с переговорами с местными группировками об освобождении похищенных тунисских граждан. Наконец, вскоре после теракта в Сусе в Тунисе был принят новый закон о терроризме. Он не только предполагал применение высшей меры наказания к террористам, но и в целом резко расширял полномочия служб безопасности. Последнее обстоятельство воскресило извечные страхи местных либералов, опасавшихся, что любое усиление спецслужб и полиции в результате приведет к восстановлению авторитаризма в стране.
При всем дестабилизирующем влиянии терактов 2015 г. на политическую ситуацию в стране, нельзя не заметить и, как минимум, двух существенных отличий тунисского сценария от ситуации в других стран региона. В Тунисе масштаб деятельности террористических группировок оставался все же значительно меньшим, не только, чем в Ливии, Ливане, Ираке или Сирии, но и чем в Египте, который славится более мощными структурами безопасности. В то же время болезненная реакция на теракты тунисского общества больше походила на реакцию европейского, а не арабского общества.
Все это, однако, не объясняет, какие механизмы заставляют тунисских джихадистов – тех самых ищущих новых смыслов бытия молодых людей – чаще уезжать за пределы страны, чем пытаться действовать на родине: ведь даже те из них, кто действует в Тунисе, в большинстве своем до этого побывали на джихаде за пределами страны. Ясно только, что дело тут не сводится лишь к успешной деятельности служб национальной безопасности или армии. Чуткость общества к терактам, болезненное их восприятие также указывают на существование каких-то глубоких социально-психологических механизмов, специфичных для Туниса в сравнении с другими арабскими странами.
Описание этих механизмов – вопрос отдельный и до сих пор еще малоизученный. Он касается не только отношения общества к угрозе вооруженного экстремизма, но и восприятия им политического насилия как такового. При всей трагичности многих событий, произошедших в Тунисе в 2010-е гг., страна пострадала от неконтролируемого насилия меньше, чем другие государства региона, хотя реакция общества на отдельные, особенно террористические, эпизоды насилия здесь носила более болезненный характер. Достаточно вспомнить об громких убийствах тунисских политиков левого толка Шукри Бильаида и Мухаммеда Брахми весной – летом 2013 г., вызвавших настоящий национальный кризис, или об уже упоминавшихся терактах 2015 г. В конечном счете, именно страх перед возможным насилием и ощущение близящейся гражданской войны сделали возможным организацию Национального диалога, позволившего успешно завершить переход к демократии. Его успешное проведение обеспечивалось действиями авторитетных институтов гражданского общества, пользующихся доверием населения и лишенных политических амбиций, деполитизированностью армии и неготовностью политических партий к радикальным действиям.
Вместе с тем, бросается в глаза, что описанное специфическое отношение к насилию свойственно, главным образом, наиболее развитым регионам страны – прибрежной зоне (Сахель), столице, крупным городам, уроженцами которых, в основном, и сформирована современная политическая система республики. Там же наибольшую эффективность показывают и упомянутые механизмы гражданского взаимодействия. В то же время в других регионах – на юге, на границах с Алжиром и Ливией – социально-политическая система более архаична, а насильственные методы не вызывают такого отторжения (например, жители Гафсы или Кебили традиционно имеют дома огнестрельное оружие, использующееся, среди прочего, в традиционных свадебных обрядах).
III. Заключение
Вооруженный экстремизм на Ближнем Востоке, приобретая совершенно разные формы в зависимости от конкретных политических и исторических условий, проистекает из совокупности причин. Некоторые из этих причин универсальны для всего региона, другие – уникальны для каждого отдельного национального и политического контекста. Соответственно и причины привлекательности экстремистских движений лишены некоего единого общего знаменателя. В одном контексте решающую роль играет внешняя угроза, в другом – разрушение базовых механизмов социального и политического взаимодействия, в третьем – феномен глубоко разделенного общества и условия гражданской войны и т. д.
Однако даже если рассматривать наиболее благополучный пример – такое гомогенное модернизированное общество с развитыми институтами, существующее в отсутствие выраженной внешней угрозы, как Тунис – проблема привлекательности вооруженных экстремистских групп никуда не исчезает. Из этого, по-видимому, следует вывод о существовании глубинных социальных проблем, заставляющих часть населения и, прежде всего, молодежи, выбирать путь вооруженного джихада. Среди них: дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, понимание невозможности позитивной самореализации в рамках действующей системы и т. д. Вместе с тем, развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или в «серые зоны», слабо поддающиеся государственному контролю.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Партология – раздел политологии, изучающий политические партии.
2 Наумкин В.В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. No 1. С. 66–96.
3 Анализ тунисского опыта основывается на серии полевых исследований, проводившихся автором в Тунисе в 2011–2016 гг.
4 Представляется, что озвученные в январе 2017 г. президентом страны Бежи Каид ас- Себси данные о 2929 тунисцев, сражающихся в рядах джихадистов в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, сильно занижены. Ранее эксперты ООН говорили о более 5000 боевиках, тунисские эксперты – о 7000–8000 соотечественников в сирийско-иракском и ливийском ИГИЛ, а сирийские власти – о более 10000 тунисцев только в Сирии. По данным МВД Туниса, властям удалось помешать выезду в места боевых действий более чем 27000 молодых людей. Terroristes tunisiens, la bataille des chiffres // Espace Menager. 03.01.2017; Qui a envoyé des jeunes tunisiens combattre avec Daech: les premières révélations du ministre de l’Intérieur, Hédi Mejdoub // Marsad Tunisie. 24.04.2017; Chaabane M. Le nombre de terroristes tunisiens dans les zones de conflits est-il gonflé? // Webdo. 06.03.2017. URL : <http://www.webdo.tn/2017/03/06/nombre-de-terroristes-tunisiens-zones-de-conflits-gonfle>;
Slaheddine Dchicha: Tous responsables! // Leaders.com. 22.01.2017. URL: <http://www.leaders.com.tn/ article/21483-slaheddine-dchicha-tous-responsables>.
5 Roselli S. Plus de 700 djihadistes sont déjà de retour en Tunisie // Tribune de Geneve. 14.09.2016. См. также сайт Ассоциации RATTA – единственного тунисского НПО, занимающегося этой проблемой: URL: <http://www.ratta-tn.org/>.
6 О региональном развитии Туниса см., например: Tizaoui H. Le decrochage industriel des regions interieurs en Tunisie. – Tunis, 2013. P. 228–229.
7 Статистику по развитию институтов и ценностным ожиданиям молодежи в народных кварталах см.: Lamloum O., Ben Zina M.A. Les jeunes de Douar Hicher et D’Ettadhamen: Une enquête sociologique. – Tunis, 2015.
8 Так, в прессе упоминалось о сыне главы педиатрического отделения военного госпиталя полковника Фатхи Байуза, уехавшего в Сирию. Отец, отправившийся искать сына, погиб в теракте, совершенном в стамбульском аэропорту 28 июня 2016 г.
URL: <http://www.slateafrique.com/676781/tunisien-aeroport-istanbul-daech>.
9 Интервью автора с представителями руководства «ан-Нахды», 2015 г.
10 Tunis: Les djihadistes sont aux 2/3 des ingénieurs // African manager. 24.05.2013.
Gambetta D., Hertog S. Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent
11 Extremism and Education. – Princeton: Princeton University Press, 2016.
12 От всего объема изученных биографий – 68,95% с высшим образованием, от общего массива данных – 46,47%.
13 Интервью автора с региональным руководством партии «ан-Нахда» в г.Меденине и с офицерами МВД Туниса.
14 Gambetta D., Hertog S. Op. cit. P. 32.
15 Comolli J.-L. Daech, le cinéma et la mort. – Paris: Editions Verdiers, 2016. Также обращает на себя внимание стремление ИГИЛ подвести богословские основания под свою деятельность и формирование им специфического сообщества экспертов «фукаха» и «улама», способных вести полемику с богословами и правоведами Аль-Каиды (не говоря уже о традиционалистах).
16 Типичный традиционный квартал в центре столицы.
17 См., например: Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского мира // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2012. No1. С. 4–24.
18 См. Кузнецов В., Салем В. Безальтернативная хрупкость: судьба государства-нации в арабском мире // Россия в глобальной политике: Валдайские записки. 13 марта 2016 г. URL: <http://globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v- arabskom-mire-18043>.
19 Деидеологизация была наиболее выраженной в Египте, Тунисе, Марокко, Иордании. В Сирии (до 2011 г.) ее ограничивало специфическое международное положение страны, сохранение в ней жесткого авторитаризма. Наиболее устойчивым элементом алжирского идеологического дискурса осталась меморизация национально-освободительной борьбы и гражданской войны 1990-х гг. Память о первой легитимизировала элиту, а о второй – служила предостережением против радикальных перемен.
20 Из интервью автора (июнь 2015 г., Бен Гардан), на условиях анонимности.
Фото: AP
Минобороны обезглавило «Исламское государство»: пиар-ход или фейк
 16 июня Минобороны России распространило информацию о том, что ВКС РФ, по предварительным данным, уничтожили 28 мая в южном предместье Ракки лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Сообщение сразу же попало в топ мировых новостей, а российские политики и ряд конъюнктурных экспертов заявили, что даже не сомневались в профессионализме российских военных – именно они, а никто другой должны были уничтожать главаря «гидры».
16 июня Минобороны России распространило информацию о том, что ВКС РФ, по предварительным данным, уничтожили 28 мая в южном предместье Ракки лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Сообщение сразу же попало в топ мировых новостей, а российские политики и ряд конъюнктурных экспертов заявили, что даже не сомневались в профессионализме российских военных – именно они, а никто другой должны были уничтожать главаря «гидры».
Автор данного материала с большим уважением относится к российским военным, по приказу рискующим своими жизнями в Сирии, и понимает, что борьба с терроризмом – дело не публичное, но крайне важное с политической точки зрения. Хочется верить, что в самом ближайшем будущем Минобороны предоставит запись средств объективного контроля и вообще пояснение своих сообщений, чтобы все желающие, а главное сомневающиеся могли удостовериться, как именно «самолеты Су-35 и Су-34 уничтожили 28 мая высокопоставленных командиров террористической группировки, входивших в состав так называемого военного совета ИГ, и еще около 30 полевых командиров среднего звена, а также до 300 боевиков их личной охраны». Среди которых вроде как - «эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах», и, возможно, аль-Багдади.
А пока таких данных не предоставлено, то разрешите отнести себя в лагерь сомневающихся и считающих, что заявление стоит расценивать в плоскости информационного противостояния США и России, не говоря уже про его безусловную ориентацию на внутренний электорат перед событиями 2018 года. И вот почему.
Локация
Заявление сделано две недели спустя после якобы удара и через несколько дней после того, как сирийское телевидение объявило об уничтожении аль-Багдади в Ракке (в апреле убегающего аль-Багдади уже «ловил российский спецназ»). И, конечно, не понятно, чем объясняется такая пауза – когда США и Россия в 2016 году делили голову спикера и руководителя зарубежными операциями ИГ аль-Аднани ведомства стран опубликовали сообщения с разницей в несколько часов (по данным из Сирии, аль-Аднани вообще был взорван в автомобиле из-за внутренних разборок в ИГ).
В сети есть русскоязычное видео «официального» СМИ джихадистов Amaq News Agency, датированное 28 мая, на котором можно узнать разрушенные здания, указанные на фото Минобороны. В нем показано примерно десять окровавленных трупов, которых закапают в одной могиле. Все ресурсы, которые документируют удары двух коалиций в Сирии, сообщают о бомбардировке самолетами западной коалиции, в результате которого погибло 18 человек (по данным, например, столь не любимой в России сирийской обсерватории по правам человека, но действительно имеющей сеть источников на местах).
В отчетах западной коалиции также сообщалось об авиаударах в районе Ракке 27 и 28 мая. При этом удар ВКС по Ракке все-таки исключать нельзя – российская авиация не часто, но наносила удары по этому городу.
Но кто бы не нанес удар… В случае смерти эмира на джихадистских ресурсах («официальных» и сторонников) всегда и сразу же появляется соответствующая информация. В конце же мая никаких сообщений о гибели таких высокопоставленных исламистов не было зафиксировано ни автором, ни ему знакомыми ему лично экспертами из США и стран ближневосточного региона.
А лидеры кто?
Обращает на себя внимание и столь крупное, как утверждается в сообщении военного ведомства, собрание боевиков (а тем более военного совета) практически в десятках километрах от линий боевых действий с курдско-арабским альянсом «Демократические силы Сирии». При этом не ясно, почему собрание в условиях интенсивных бомбардировок двух коалиций должны были проводиться в зданиях, а не под землей – ИГ активно пользуется подземными коммуникациями при ведении боевых действиях как в городских условиях, так и в пустынных деревнях.
Во-первых, есть данные (из перехваченной документации исламистов), что ИГ начало готовится к потере крупных городов еще в 2015 году, в частности Мосула. Для этого была изменена иерархия управления – совет шуры, военный совет и совет по безопасности и разведке ИГ были эвакуированы в сеть подземных убежищ на сирийско-иракской границе, а аль-Аднани, погибший в 2016 году, возглавил параллельную руководящую структуру.
Во-вторых, военный совет и в лучшие времена ИГ был довольно малочисленным, чтобы исключить случайных и внедренных туда спецслужбами людей, поэтому о некоторых его членах информация вообще отсутствует (численность совета шуры около 9-11 человек). Гипотетически удары, сложившие несколько зданий (судя по фото, предоставленным Минобороны), ликвидировали бы весь военный костяк, а не только эмира Ракки, который действительно мог отвечать за оборону провинции в условиях гибели командиров конкретных направлений. Кстати, формально начальник службы безопасности (амнията) не должен входить в состав военного совета.
В-третьих, имена якобы уничтоженных лидеров не известны исследователям, хотя это все-таки не аргумент. Поясню.
Эмиром Ракки долго время был Абу Лукман (Али Мусса аль-Хавик), выпущенный сирийским руководством из тюрьмы в 2011 году по амнистии. Ему приписывают конфликт со спикером аль-Аднани (и его ликвидацию) и прочили роль преемника аль-Багдади. По некоторым данным, Абу Лукман в 2015 году еще исполнял обязанности эмира провинции (хотя в 2015 году СМИ писали, что ИГ скрыло его смерть), а во время убийства аль-Аднани (30 августа 2016-го) он был уже бывшим губернатором, но - живым. Кто сменил его на этой должности – вопрос, у которого по сей день нет ответа. Другое дело, как мы уже говорили выше, гибель эмира центральной провинции в мае 2017 года вряд ли бы осталась неизвестной. Скажем, 11 июня курды ликвидировали куда более мелкого «эмира Абу Хeттаба аль-Туниси» и семерых джихадистов в окрестностях Ракки, и фотографии их тел сразу же появились на «специальных ресурсах». 26 марта был уничтожен эмир города Табка (провинция Ракка) – джихадист из Германии, а 21 марта – в Идлибе убит бывший эмир «Нусры» в Ракке Або аль-Аббас. Об их гибели стало известно сразу же.
Про эмира, контролирующего область от Ракки до Эс-Сухне, в информационном поле известно только то, что оппозиционные сирийские журналисты утверждают, что Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж – действительно местный житель Эс-Сухне, но погибший от авиаудара еще 24 мая в возрасте 60 лет и к ИГ не имевший никакого отношения.
Что касается руководителя амнията, то в документах джихадистов постоянно фигурирует одно и тоже имя – «Доктор Самир» (по некоторым данным, Абу Али, по другим - Абу Сулейман аль-Фаранси (из Франции), по третьим - Абу Ахмад, бельгийско-марокканского происхождения). Сложно сказать, один ли это человек или несколько. Например, приближенный к аль-Багдади командир Абдуррахман Мустафа аль-Кадули, убитый в 2016 году, имел около семи имен.
Таким образом, удар Минобороны по указанному району теоретически – да, возможен, но достоверность бомбардировки, как число убитых и имена лидеров, крайне сложно проверить. С точки зрения симметричной информационной войны с США – это довольно удачный шаг, который зафиксировали все мировые средства массовой информации и который спровоцировал нужный информационный шум. Но есть одно «но»: если западные официальные ведомства и СМИ позволяют себе откровенную дезинформацию и им верят, то в случае с Россией работает другой механизм и чаще всего - в негативную сторону.
А если и правда вдруг все убиты?
«Исламское государство» - военное квази-государство со строгой иерархией во всех сферах. За время своего существования первоначальный костяк руководства сильно изменился, и, хотя потеря любого харизматичного лидера-радикала – так или иначе удар по организации, но ИГ училось выживать, и это у него неплохо получается.
На смену выбывшим выходцам из армии и спецслужб Саддама Хусейна и иностранным «специалистам» приходило новое поколение. Скажем, аль-Аднани сменил Абу Суфьян ас-Сулями – известный проповедник из Бахрейна с большими связями в арабском мире. Именно аль-Аднани и его «преемнику» принадлежат знаковые обращения 2016 года о продолжении борьбы после «потери Ракки и Мосула», возможному возвращению в этих странах к «первоначальному существованию» (подпольному на сирийско-иракской границе) и расширении «халифата» в других странах мира.
«Исламское государство», как и ее прародительница «Аль-Каеда», адаптировались к потерям лидеров, и его отряды могут действовать достаточно автономно. Как это происходит сейчас в Ираке, где диверсии и суицидальные атаки, продолжаются даже в официально освобожденных регионах. Или в Иране – в марте 2017 года официальные ресурсы ИГ призвали существующие ячейки сформировать свой совет шуры и избрать «министра войны» из-за их автономного существования (хотя в административно-территориальном делении «персидские земли» включены в преимущественно иракский «Вилайет Дияла» (не совпадает с общепринятыми границами провинции Дияла)).
Поэтому даже не доказанная гибель лидеров не оказывает особого влияния на боеспособность отрядов ИГ, а в условиях этноконфессионального дисбаланса они же способны самоорганизоваться в новую структуру, особенно при сохранении оперативников и проповедников.
Однако в идеологии ИГ есть одно слабое место – и это «халиф». Гипотетически «руководитель» совета шуры Абу Аркан аль-Амири, мифическая личность в полном смысле этого слова (неизвестно откуда он родом, как выглядит и т.д.), может занять место «халифа» в случае его гибели или поимки, а совет шуры – назначить нового.
В пропаганде ИГ много внимания отводилось фигуре аль-Багдади, его образованности в сфере исламского права и «избранности» (якобы он – представитель племени курайшитов, из которого происходит пророк Мохаммед и т.д.) и, но, насколько можно судить, ни разу не упоминалось о возможности преемника. Поэтому в случае его доказанной и не подготовленной исламистской пропагандой гибели, «халифат» может оказаться в замешательстве в плане верности «халифу» всей «мусульманской уммы». В «Исламском государстве» это должны понимать.
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Блокада Катара: «тектонические» сдвиги или обычная история в регионе
 Саудовско-катарские отношения переживают новый публичный кризис, хотя на Ближнем Востоке выяснять отношения принято за закрытыми дверями. 5 июня сначала Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении транспортного сообщения с этой страной, а затем Йемен, Мальдивы, Ливия (Тобрук) и Маврикий. Причина – поддержка катарцами сепаратистских и террористических групп, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду», вмешательство во внутренние дела стран региона, в том числе в сотрудничестве с Ираном (Эр-Рияд обвинил Доху в поддержке проиранских групп в Восточной провинции КСА). В ответ МИД Катара заявил, что у этого решения нет легитимных оснований и что оно нарушает суверенитет эмирата.
Саудовско-катарские отношения переживают новый публичный кризис, хотя на Ближнем Востоке выяснять отношения принято за закрытыми дверями. 5 июня сначала Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении транспортного сообщения с этой страной, а затем Йемен, Мальдивы, Ливия (Тобрук) и Маврикий. Причина – поддержка катарцами сепаратистских и террористических групп, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду», вмешательство во внутренние дела стран региона, в том числе в сотрудничестве с Ираном (Эр-Рияд обвинил Доху в поддержке проиранских групп в Восточной провинции КСА). В ответ МИД Катара заявил, что у этого решения нет легитимных оснований и что оно нарушает суверенитет эмирата.
Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества отметил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Катара и призывает его чтить прежние обязательства, начиная от прекращения поддержки террористических групп и заканчивая провокациями со страниц СМИ. В FIFA Reuters заявили, что регулярно контактируют с оргкомитетом ЧМ-2022 (пройдет в Катаре), других комментариев организация пока делать не будет.
С одной стороны, кажется, что ситуация вокруг Катара – образец иллюзорности единства арабских стран против Ирана и продолжение противостояния внутри региона, которое наметилось давно. С другой – нынешний кризис не имеет аналога и отражает трансформацию Ближнего Востока. Однако второе не отменяет первого, а о беспрецедентности саудовско-катарских отношений говорят не в первый раз.
Беспрецедентный шаг
В марте 2014 года Саудовская Аравия, Эмираты и Бахрейн отозвали своих дипломатов из Катара, «поскольку Доха не выполнила соглашение между странами Персидского залива не вмешиваться во внутренние дела друг друга». Тогда эксперты также называли шаг этих стран беспрецедентным и фундаментальным в 30-летней истории Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (создан в 1981 году). Наблюдатели отмечали, что решение вызвано неодобрением некоторых катарских позиций, как будто бы Доха не входит в группу стран Персидского залива и у нее есть отдельные интересы. При этом со стороны трех стран звучали угрозы, реализованные в настоящее время, а именно: торговые санкции, закрытие воздушного пространства и сухопутных границ с эмиратом, а аналитики допускали военный сценарий.
Однако до морской и воздушной блокады Катара дело не дошло, да и руководство страны тогда «сдало назад» - согласилось на условия и выполнило некоторые пункты договоренностей. Так, эмират вроде бы прекратил активную поддержку «Братьев-мусульман», хотя в регионе считали и, как мы видим, продолжают считать, что не до конца. Однако от растущих амбиций Катар отказаться не мог, поскольку это означало бы отказ от своих дорогостоящих и энергозатратных действий по усилению влияния не только на Ближнем Востоке, но и в Северной Африке.
Всему виной саммит?
Нынешний конфликт заметно разгорелся после визита Трампа в Эр-Рияд и саммита арабских стран в мае. По его итогам Иран был назван главным спонсором терроризма, с которым стороны намерены решительно бороться. На этом фоне критицизм роста антииранских настроений 4-го эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани, слова которого списали на происки хакеров, действительно резонировала.
Контакты между Дохой и Тегераном существуют – яркое свидетельство тому апрельская сделка сторон, которая включала в себя выкуп Катаром в Ираке в обход Багдада 26 членов королевской семьи, похищенных в 2015 году во время соколиной охоты, и шиитско-суннитскую эвакуацию (с одной стороны, оппозиции из Мадая и Забадани под Дамаском, с другой - шиитов из Фуа и Кефрая в Идлибе).
Но представляется, что обвинения КСА и ОАЭ в адрес Катара о попытках сорвать планы по изоляции Тегерана – лишь удобный повод для «одергивания» и принижения статуса Дохи. Хотя бы потому, что реального сдерживания Ирана не происходит. Его присутствие в Йемене – миф, используемый КСА, в Сирии продвижение иранских прокси-сил к границе с Ираком хотя и остановлено США, но достаточно осторожно, а в самом Ираке преимущественно шиитское ополчение «Хашд аш-Шабии» имеет достаточную свободу действий, причем некоторые структуры даже введены в состав армии.
США vs. Катар
Судя по комментариям в прессе, экспертное сообщество разделилось на две части: одни считают, что США к нынешней «блокаде» Катара не имеют отношения, другие уверены, что американцы санкционировали изоляцию Дохи, и это было утверждено в ходе визита Трампа в Эр-Рияд. На наш взгляд, лакмусовой бумажкой здесь могут служить публикации в американской прессе как до саммита, так и после, призывающие новую администрацию обратить пристальное внимание на своего союзника. Он, рассуждали эксперты, с одной стороны, полностью зависит от США в сфере безопасности по причине базирования там американских военных, с другой – в течение более чем 20 лет систематически предпринимает действия, которые «не только не смогли продвинуть интересы США на Ближнем Востоке, но и во многих случаях активно подрывали их». В то же время американцы признают, что не раз пользовались катарскими контактами, например, с «Нусрой» и «Талибан» для освобождения своих подданных.
Официально госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал ряд стран Персидского залива, объявивших о разрыве дипотношений с Катаром, сесть за стол переговоров, а представители Пентагона заявили, что нынешний кризис никак не повлияет на присутствие американских военных в эмирате.
Однако нынешние действия по «одергиванию» Дохи могут быть использованы Штатами в свою пользу, при этом вряд ли они всерьез будут искать альтернативны военного присутствия. Ходят слухи, что рассматривается вариант возвращения американского присутствия в Саудовскую Аравию, но против этого шага, скорее всего, выступит сам Эр-Рияд, поскольку тема «крестоносцев на святой земле» будет способствовать росту радикализма в королевстве и усилению «Исламского государства». Хотя эти слухи все же больше походят на инструмент информационного давления, поскольку в американской экспертной среде преобладает мнение, что в Персидском заливе период сотрудничества стран сменяется периодом трений, это связано с амбициями ряда государств (как пример, саудовско-эмиратское противостояние по Йемену и в целом в регионе), но в целом ситуация остается и останется стабильной. Поэтому давление на Катар со стороны региональных игроков вряд ли будет носить долгосрочный характер: через несколько месяцев можно ожидать уступки со стороны Катара в плане депортации из страны некоторых особо ярких фигур, некую реструктуризацию СМИ, снижение пожертвований через частные фонды. Во-первых, Доха хотя и обладает солидными ресурсами для корректировки маршрутов поставок, но основной доступ к товарам осуществляется через сухопутную границу с КСА, да развитие Qatar Airways накладывает отпечаток. Во-вторых, длительная изоляция Катара чревата дальнейшими и более тесными контактами с Ираном.
Американо-иранское противостояние в Сирии выгодно России
 Ситуация на юго-востоке Сирии продолжает накаляться. Если в ближайшее время Москва и США не выработают единое решение по деконфликтации, то со стороны Пентагона может последовать жесткая реакция.
Ситуация на юго-востоке Сирии продолжает накаляться. Если в ближайшее время Москва и США не выработают единое решение по деконфликтации, то со стороны Пентагона может последовать жесткая реакция.
Как мы отмечали ранее, несмотря на «предупреждающие» авиаудары ВВС США по иранским прокси-силам, проправительственные формирования не отказались от намерений продвигаться в сторону границы с Ираком через аль-Танф – населенный пункт на границе с Иорданией и опорный пункт американцев и их союзников по борьбе с ИГ. Такие действия срывают планы США, которые поддерживают сугубо умеренную оппозицию «Революшн коммандо» и ряда других фракций в операциях против «Исламского государства», а главное – преследуют не столько борьбу с исламистами, сколько создание сирийско-иракского «шиитского коридора» (в случае соединения сирийской группировки с формированиями иракского ополчения «Хашд аш-Шааби» - также преимущественно шиитского).
19 мая на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты предложили России план по разграничению операций в главном нефтедобывающем регионе Сирии провинции Дейр эз-Зор. Подробностей такого предложения нет, хотя весьма показательно то, что американцы готовы делить пространство для операций против ИГ с проправительственной группировкой.
Но, во-первых, США (при нынешнем антииранском курсе администрации Белого дома) не могут допустить создание «шиитского коридора» и усиления Ирана на юге страны, а значит – отвести отряды оппозиции в Иорданию и пропустить проправительственные формирования к городу Аль-Букамаль, который контролирует ИГ. Или – начав бои за Аль-Букамаль, отдать все отбитые территории силам режима.
Во-вторых, американские аналитики хорошо понимают, что сирийский Аль-Букамаль и иракский Аль-Каим – это те населенные пункты, благодаря которым вытесненная во время иракской войны «Аль-Каида» сумела сохраниться, а нынешние «Нусра» и ИГ набрали силу. Именно поэтому в составе «Революшн коммандо» (судя по всему, «коммандо» - это тактическая коалиция, куда входят «Джейш Усуд аш-Шаркия», силы «Мученика Ахмада аль-Абдо» и ряд других «свободных кланов») – уроженцы Дейр эз-Зора и конкретно Аль-Букамаля. Понятно, что самый безопасный сценарий был бы, если бы американцы и их союзники продолжили операцию по взятию Аль-Букамаля, а проправительственные силы начали давно обещаемое наступление от Пальмиры в сторону заблокированного гарнизона сирийский войск в западной части города Дейр эз-Зор. У сил режима хорошо получилось сорвать наступление оппозиции на Аль-Букамаль, но уже несколько месяцев они не могут отбить у ИГ Пальмирский район зернохранилищ и выбить исламистов из подземных бункеров.
Сложно сказать, было ли продвижение на восток отрядов сирийской армии и проиранских отрядов к иракской границе изначально одобрено Москвой, которая одновременно старается выстраивать отношения с монархиями Персидского залива. Создается впечатление, что его инициировал Иран, а России пришлось поддержать свои союзников на земле дипломатически и осторожно военным присутствием (периодически появляются сообщения о прикрытии сил режима в том районе не только сирийскими, но российскими истребителями). Есть информация о том, что в апреле сирийское военное командование официально (в Сети есть документы, выложенные шиитскими группами якобы за подписью Асада и начальника сирийского Генштаба Али Абдуллы Айюба) передало иранским офицерам командование сирийским ополчением, а также – ответственность за операции на юге страны.
На словах представители «Революшн коммандо» обещают дать бой иранским прокси-силам в случае их дальнейшего продвижения к аль-Танфу. Известно, что к ним 21 мая присоединились отряды «Куват аль-Бадия» - силы Совета Пальмиры, сформированного внутри 75-тысячного лагеря беженцев Рукбан на границе с Иорданией (недалеко от аль-Танфа). Но пока, в отличие от сил режима, они бездействуют и даже сдают территории оппонентам, например, КПП аль-Зарка в 26 км от аль-Танфа. При этом проправительственные силы действуют с нескольких направлений – одна группировка находится в десятках километров от аль-Танфа (интересно, что в составе есть американские танки Абрамс, которые изначально были переданы Багдадом подразделениям «Хашд аш-Шааби», формально введенным в состав ВС Ирака, но затем «перетекли» иракцам в Сирию). Вторая группировка, в составе которой как раз и были замечены российские военные, идет из провинции Эс-Сувейда. Как сообщают источники, проправительственные силы по своей инициативе вывешивают российский флаг для демонстрации поддержки, а количество советников и спецназа сильно преувеличено.
В любом случае попытки применить американскую тактику – насытить российскими военными советниками союзные силы на потенциально опасном направлении – теоретически могут предотвратить военный сценарий, но явно осложнят диалог РФ на политической арене, причем не только с США, но и с другими региональными игроками. Тем более что США сами применяют там такой сценарий – вместе с американцами в составе коалиционных Сил специальных операций действуют иорданцы, британцы и норвежцы.
После того, как 22 мая «шиитская группировка» направила часть своих сил в сторону второй и возникла угроза блокады части подразделений оппозиции, отряды Сирийской свободной армии объявили о начале операции «Вулкан пустыни», цель которой – «очистить Сирийскую пустыню от иранских боевиков». Понятно, что повстанцы в данном случае рассчитывают на поддержку США, поскольку в самой Сирийской пустыне они располагают примерно 2 тысячами бойцов (из них около 500 человек в аль-Танфе). Какова численность двух проправительственных группировок – неизвестно. Проправительственные источники сообщают о 7-9 тысячах, но по всей видимости можно говорить о 5 тысячах человек.
На самом деле: трудно прогнозировать, к чему приведет такая ситуация. По сути, сейчас администрация Трампа должна принять решение, которое может сильно повлиять на сирийский конфликт – продемонстрировать реальное сдерживание Ирана. В настоящий момент антииранский курс Белого дома сводится лишь к тому, что Вашингтон принял линию Эр-Рияда и фактически одобрил действия просаудовской коалиции в Йемене по сдерживанию там Тегерана. Хотя в приватных беседах эксперты Конгресса сами признают, что иранское присутствие в Йемене искусственно раздуто саудитами, а Тегеран устраивает борьба с ним там, где его нет. Для реального сдерживания Тегерана американцы должны продемонстрировать свою решимость в Сирии. По слухам, в настоящее время американцы прорабатывают сценарий жесткого ответа иранскому присутствию на сирийско-иорданской границе, а также готовы изменить свою линию в Ираке после взятия Мосула в сторону ослабления влияния Тегерана. В такой ситуации Россия будет вынуждена участвовать в переговорах по недопущению конфликта между проправительственными и проамериканскими силами в Сирии и давать какие-то обязательства, но разумнее будет при этом сохранять дистанцию. При грамотном маневрировании Москва здесь способна даже извлечь дивиденды – усилить свое влияние в Дамаске и вообще Сирии, потеснив иранцев, что может позитивно сказаться на политическом урегулировании конфликта.
Перемещение «столицы» ИГ в Дейр эз-Зор: правда и вымысел
 1 мая проамериканский курдско-арабский альянс взял под контроль город Табка, расположенный в непосредственной близости от Евфратской ГЭС. В то же время американские инженеры уже начали проводить работы по восстановлению авиабазы Табка, для того, чтобы использовать ее в качестве передового аэродрома для последующего наступления на так называемую столицу «Исламского государства» - город Ракка.
1 мая проамериканский курдско-арабский альянс взял под контроль город Табка, расположенный в непосредственной близости от Евфратской ГЭС. В то же время американские инженеры уже начали проводить работы по восстановлению авиабазы Табка, для того, чтобы использовать ее в качестве передового аэродрома для последующего наступления на так называемую столицу «Исламского государства» - город Ракка.
На это фоне в соцсетях и на джихадистских форумах активизировались разговоры о том, что лидеры ИГ, готовясь к обороне, перенесли «столицу» из Ракки в пригород Дейр эз-Зора. Ранее об этом сообщил телеканал Fox News. Источник издания в Пентагоне отметил, что из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемой Штатами курдско-арабской коалиции «Демократические силы Сирии» уже два месяца фиксируется массовое передвижение сотен «бюрократов и чиновников» ИГ из Ракки в городок Меядин.
«Конец ИГ близок, поскольку из Дейр эз-Зора столицу никуда не перенесешь», - вот первая реакция обывателя на это сообщение. Однако первая реакция, которая возникает у востоковеда при любой громкой новости, касающейся «Исламского государства», другая - «а не очередной ли это фейк?».
По мере того, как контролируемые «халифатом» территории в Сирии и Ираке сокращаются, появляется все больше дезинформации. Как правило, ложные сообщения вбрасываются с двумя целями: подорвать число сторонников ИГ в разных странах мира и повысить свой имидж успешного борца с терроризмом – хотя бы в информационном поле. Отсюда регулярные сообщения иракских шиитских СМИ о поимке и ранениях «халифа» аль-Багдади и его родственников, тайных обращениях лидера с призывом «уходить в горы» и т.д. Однако в случае с новостью, распространенной телеканалом Fox News, все сложнее. Одновременно можно сказать, что это сообщение, с одной стороны, правдиво, с другой - сомнительно. Причем, по всей видимости, основывается на выводах недавно опубликованного доклада International Center for the Study of Violent Extremism.
Правда
Она в том, что в ИГ достаточно военных специалистов со всего мира, которые умеют планировать наступательные и оборонительные операции и которые, что важно, предусматривают возможность поражения. «Халифат» в своей пропаганде действительно намекал на отступление, но тонко и еще в мае 2016 г. Тогда в своем выступлении, распространённом через Al-Hayat Media Centre, Абу Мухаммад аль-Аднани, ныне уничтоженный, а тогда - «спикер ИГ» и руководитель службы зарубежных операций (Amn al-Kharji), впервые призвал своих сторонников готовиться «к трудным временам». Тогда он произнес фразу «inhiyaz ila al-sahra» - «отступление в пустыню», в контексте того, что потеря Сирта, Мосула и Ракки и «возвращение к исходному условию» - не означат поражение и окончание борьбы.
Под этими фразами может подразумеваться только одно: лидеры ИГ в Сирии и Ираке готовятся вернуться к опыту, предшествующему провозглашению «халифата» и наработанному с 2006 по 2013 годы. Тогда радикалы были ослаблены американскими войсками и сформированным из суннитских племен провинции Анбар и подотчетным Пентагону ополчением. Но определенная часть их не без поддержки некоторых представителей племен нашла пристанище на сирийско-иракской границе, испещренной тоннелями. Там джихадисты набирали силу и оттуда с помощью агентуры, пользуясь этноконфессиональным дисбалансом, действовали в Сирии и Ираке.
В территориальном делении ИГ место «отступления» называется «Вилайет Аль-Фурат» - территория, которая включает в себя северо-западную часть иракской провинции Анбар и восточную сирийской мухафазы Дейр эз-Зор. Иракскую часть этого района крайне сложно контролировать –боевики ИГ, находящиеся вне Мосульского кольца, периодически уничтожают иракские патрули и конвои рядом и в самом городе Ар-Рутба и последние недели их активность в этом районе только возрастает. Сирийская часть – проблемная во всех смыслах.
Во-первых, в Дейр эз-Зоре также проживают племена, представленные в Анбаре. Город Дейр эз-Зор – центр провинции - оказался в блокаде в апреле 2014 г., когда ИГ захватило его часть и блокировало трассы. В январе 2015 г. «халифат» осадил и правительственный сектор — аэродром и прилегающие к нему районы в городе.
Проживающее на подконтрольных ИГ территориях мирное население – не всегда, но все же стопор для работы авиации двух коалиций, поэтому Дейр эз-Зор – это не только убежище как для высокопоставленных командиров ИГ, но и место, где можно проводить ротацию подразделений для последующих боев с подразделениями как «Демократических сил Сирии», так правительственной армии и союзного ей ополчения. По сообщениям источников автора, боевики ИГ недавно возобновили рекрутинг местного населения в первую очередь для пополнения своих отрядов, воюющих с курдами в районе города Шаддади провинции Эль-Хасеке. В этом смысле не исключено, что «бюрократы» ИГ (финансисты, административный персонал) действительно переместились в пригород Дейр эз-Зора, при этом, по информации сирийского оппозиционного издания Enab Baladi, сторонники ИГ стараются ограничить перемещение гражданского населения.
Во-вторых, абсолютно не ясно, кто в перспективе может освободить провинцию от ИГ. Правительственная группировка практически не движется со стороны Пальмиры и в этом смысле больше шансов освободить город и деблокировать гарнизон сирийский войск у «Демократических сил Сирии», которые уже контролируют ряд территорий мухафазы. Однако приоритет проамериканской коалиции – борьба с ИГ, и этапы ее операции «Гнев Евфрата» четко расписаны и соблюдаются.
Очевидно, что этот альянс не будет штурмовать город Дейр эз-Зор до вытеснения ИГ из Ракки, а значит еще может пройти достаточно времени. Единственное, что возможно в более-менее ближайшей перспективе – новая операция США с опорой на подразделения коалиции Revolution Commando от иорданской границы в сторону приграничного города Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор. Цель – создать там плацдарм для последующих операций в провинции. Прошлая попытка американцев провести такую операцию и высадить десант в тыл боевиков ИГ закончилась неудачей и роспуском «Новой сирийской армии», на базе которой и была сформирована нынешняя коалиция Revolution Commando.
Сомнения
В первую очередь не вызывает доверия информация, что якобы после потери плотины и авиабазы Табка в марте 2017 года ИГ минимизировало свое присутствие в Ракке и воюет только на северной ее окраине. Курдские источники наоборот сообщают о мероприятиях по укреплению обороны города, ведущихся с середины марта на фоне активной пропаганды, что «затяжные бои позволят сильнее втянуть американцев в боевые действия на земле». Так, наблюдается вступление в ряды передовых отрядов ИГ людей из «шариатской полиции» и муниципалитета Ракки, вооружение местных жителей снайперскими винтовками, создание мелких командных центров для более четкой координации обороны.
При этом наблюдается двоякая тенденция: с одной стороны, подобные опорные пункты создаются в жилых зданиях с выселением проживающих там семей, с другой – выделяются ресурсы для снабжения гражданских. Они так или иначе будут выполнять роль «живого щита», хотя «официально» ИГ заявляет, что никого не удерживает на территориях, где ведутся боевые действия, и наоборот – поощряет перемещение в «спокойные» районы. Поскольку, по словам сторонников «халифата», гражданские мешают воевать и пользоваться подземными тоннелями, а их перемещение способствует поддержанию связей с теми людьми, которые находятся на территориях, официально считающихся освобожденными от ИГ, с помощью чего «легче исполнять теракты в тылу противника» и «вновь набрать силу». А в том, что реинкарнация ИГ в Сирии и Ираке возможна, практически нет сомнений. На фоне разрушенной инфраструктуры, этноконфессиональных перекосов и дисфункции госаппарата активность ячеек ИГ не прекращается даже в Багдаде, а в провинции Дияла и городах Тикрит, Самарра мухафазы Салах-эд-Дин «халифат», судя по всему, восстанавливает свое присутствие.
КАРТ-БЛАНШ. Исламские радикалы переходят в наступление
 Не успевает мир перевести дух от сообщений о взрывах и убийствах, совершаемых террористами – иногда одиночками, иногда группами, – как поступают известия о новых. На днях весь арабский мир содрогнулся, узнав о зверской расправе, которую учинили боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) над 20 египтянами-коптами, работавшими по контрактам в Ливии. Ужасает жестокость этого бесчеловечного преступления, ужасает и тот факт, что, обосновавшись в Сирии и Ираке, боевики ИГИЛ расширяют плацдарм своих операций и открыли новый фронт действий в Северной Африке.
Не успевает мир перевести дух от сообщений о взрывах и убийствах, совершаемых террористами – иногда одиночками, иногда группами, – как поступают известия о новых. На днях весь арабский мир содрогнулся, узнав о зверской расправе, которую учинили боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) над 20 египтянами-коптами, работавшими по контрактам в Ливии. Ужасает жестокость этого бесчеловечного преступления, ужасает и тот факт, что, обосновавшись в Сирии и Ираке, боевики ИГИЛ расширяют плацдарм своих операций и открыли новый фронт действий в Северной Африке.
Расположенная в самом сердце Средиземноморья, известная своими уникальными историческими памятниками, богатейшими природными ресурсами, прежде всего высококачественной нефтью, Ливия стала жертвой натовских бомбардировок 2011 года. Страна разорвана, расколота, разорена; на местах в провинции орудуют вооруженные отряды разного рода «милиций», которые не подчиняются никаким властям. Недавно итальянское правительство официально предложило направить свои войска в Ливию, чтобы справиться с разрухой и хаосом, если на этот счет будет решение Совета Безопасности ООН.
В течение последних месяцев главари ИГИЛ во главе с халифом Ибрагимом развернули активную деятельность на Синае и затем на северном побережье Африки, где были созданы специальные подразделения для Алжира и для Ливии. И вот уже черные флаги халифата стали развеваться в разных ливийских городах. В январе активисты ИГИЛ совершили нападение на отель «Каринтия» в Триполи, убили там американца, француза; в восточном городе Дерна они казнили нескольких журналистов; отрядам ИГИЛ удалось даже на короткое время захватить нефтяное месторождение «Мабрук», совершить нападения на другие месторождения в районе города Сирт.
Правительство Ливии в Тобруке, признанное большинством международного сообщества, пытается вместе с войсками генерала Халифы Хафтара мобилизовать силы для отпора боевикам ИГИЛ, но пока без особых успехов. Что же касается правительства в Триполи, созданного Всеобщим национальным конгрессом, то, хотя его возглавляют исламисты, экстремисты из ИГИЛ и его обвиняют в вероотступничестве.
Отряды ИГИЛ, по сообщениям сайта «Аль-Арабия», ведут активную вербовку новых рекрутов в различных племенах, они даже пытаются привлечь в свои ряды ополченцев из Мисураты и сторонников движения «Ливийский рассвет».
По расчетам лидеров ИГИЛ, чудовищное злодеяние в отношении египетских христиан должно не только запугать самих ливийцев, но и продемонстрировать силу исламистов в Ливии. Фактически это означает резкое усиление экстремистских тенденций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Как известно, натовские бомбардировки привели не только к развалу Ливии, но и к расколу на две части другого государства – Мали. Одновременно активизировалась деятельность и другой экстремистской организации – «Боко харам» в Нигерии, которая, сумев получить после свержения режима Каддафи некоторую часть ливийского оружия, угрожает не только своей собственной стране, но и соседним государствам, в частности Чаду и Камеруну.
Естественно, что эти новые очаги напряженности, разорение, разруха ведут к увеличению потока беженцев из Африки. Только по официальным данным, через Средиземное море в Европу в 2014 году пыталось переправиться около 300 тыс. человек, из них несколько тысяч утонуло.
Объективным наблюдателям становится ясно, что бесконечная череда терактов, взрывов, насилий – это реакция на проводимую странами Запада политику, которая направлена только на достижение любыми средствами собственных целей без учета и чаще всего в ущерб интересам других народов.
В слепом упоении своей властью лидеры многих стран Запада не осознают, что грубыми действиями в отношении многих стран, навязывая силой свои правила поведения, моральные нормы, мировосприятие, ущемляя достоинство других народов, они неизбежно вызывают огонь на себя, расширяют плацдарм террористической деятельности экстремистов в собственных странах. В январе мы были свидетелями теракта в Париже, в феврале – новым объектом нападений экстремистов стала Дания.
Нацеленность западных стран на обеспечение собственных интересов любой ценой порой граничит с безрассудством. Сосредоточившись на том, чтобы оторвать Украину от России и создать болезненный конфликт на Европейском континенте, государства ЕС словно утратили память об ужасах прошедших войн, не осознавая, сколь опасна и непредсказуема реальная угроза, исходящая от исламского экстремизма.
Справиться с ней можно только коллективными усилиями, и прежде всего в тесной координации с Россией.
Изначально опубликовано: http://www.ng.ru/world/2015-02-19/3_kartblansh.html
Виталий Наумкин о переговорах в Астане
 Научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН, председатель совета IMESClub, Виталий Наумкин дает развернутое глубокое интервью о переговорах в Астане и по перспективах дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии
Научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН, председатель совета IMESClub, Виталий Наумкин дает развернутое глубокое интервью о переговорах в Астане и по перспективах дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии
Переговоры в Астане: новые друзья или старые враги
 23 января в Астане должны пройти очередные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Впервые предполагается встреча представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Также впервые за одним столом с теми, кого до сих пор называли бандформированиями, окажутся российские военные и дипломаты. Чем бы не закончилась встреча в Астане, Москве жизненно необходимо наладить собственные, независимые от региональных союзников, каналы связи с теми, кто воюет против официального Дамаска. Если, конечно, Россия намерена надолго остаться в Сирии и закрепиться в роли серьезного игрока на Ближнем Востоке. Вопрос, как приобрести новых союзников, не потеряв старых.
23 января в Астане должны пройти очередные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Впервые предполагается встреча представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Также впервые за одним столом с теми, кого до сих пор называли бандформированиями, окажутся российские военные и дипломаты. Чем бы не закончилась встреча в Астане, Москве жизненно необходимо наладить собственные, независимые от региональных союзников, каналы связи с теми, кто воюет против официального Дамаска. Если, конечно, Россия намерена надолго остаться в Сирии и закрепиться в роли серьезного игрока на Ближнем Востоке. Вопрос, как приобрести новых союзников, не потеряв старых.
О серьезности намерений Москвы наладить контакты с вооруженной оппозицией заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. По его словам, полевые командиры должны стать полноправными участниками политического процесса урегулирования в Сирии. Министр напомнил, что до сих пор все, кто приглашались на переговоры по линии ООН — «это политические деятели, эмигранты и неэмигранты». На переговорах не хватало участия тех, кто реально определяет ситуацию «на земле», т.е. представителей вооруженных формирований.
Со словами министра поспорить трудно, альтернативы диалогу с теми, кто контролирует конкретные территории, нет. Иначе нет шанса не только на мир, но и на более-менее длительное перемирие. Проблема в том, что Москве придется выстраивать этот диалог практически с нуля. Все эти группировки находятся под контролем и на финансовом обеспечении Турции, Катара, Саудовской Аравии и США. И до сих пор Россия отказывалась иметь с ними дело, по крайней мере, на официальном уровне. Кроме того, на этом пути Москва рискует испортить отношения с Тегераном.
Формально инициаторами встречи в Астане стали Россия, Турция и Иран. Но в реальности такой формат стал возможным только после того, как Москва и Анкара нашли точки соприкосновения относительно урегулирования сирийского конфликта.
Первым наглядным результатом неожиданного достигнутого взаимопонимания стало возвращение Алеппо под контроль официального Дамаска. Затем последовало подписание соглашения о прекращении огня между сирийским правительством и значительной частью вооруженных группировок. Соглашение было тут же нарушено с обеих сторон, но формально путь к переговорам был открыт.
Больше не террористы?
Единственные, кого не ждут в Астане, это запрещенные в РФ террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», ныне сменившая название на «Джебхат Фатх аш-Шам».
Однако есть небольшой нюанс – до сих пор камнем преткновения между основными посредниками в урегулировании конфликта (Россией, США, Ираном и Турцией) был вопрос, какие группировки являются террористическими, а с кем можно вести диалог. Для самих сирийцев не секрет, что один и тот же человек может утром воевать под флагом одних, а вечером других. Да и сами группировки, то создают союзы, то воюют друг против друга.
Предполагалось, что делегацию вооруженной оппозиции в Астане возглавит Мохаммад Аллюш (уже перед самыми переговорами появилось сообщение, что у делегации оппозиции нет единого руководителя). Аллюш - глава политического крыла «Джейш аль-Ислам» и брат убитого чуть более года назад военного командира этой группировки Захрана Аллюша. 25 декабря 2015 года сирийские военные нанесли удар по штабу «Джейш аль-Ислам» во время совещания нескольких военных группировок. Вместе с Аллюшем погибли, по данным СМИ, около 20 командиров различных вооруженных формирований, в том числе «Фейлак Рахман» и «Ахрар аш-Шам». И именно эти группировки постоянно назывались среди тех, кто нес ответственность за неоднократные обстрелы российского посольства в Дамаске.
Вот цитата официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, датированная 6 октября 2016 года, после очередного обстрела посольства: «Создается впечатление, что наши западные партнеры забывают, что «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство», «Джунд аль-Акса», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и другие подобные группировки - это все та же разросшаяся «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которая 15 лет назад совершила страшные теракты в США».
«Ахрар аш-Шам», бригады «Фейлак Рахман», а также еще несколько группировок на данный момент отказываются от участия во встрече в Астане. Но Москва не против вести диалог и с ними. Об этом свидетельствует тот факт, что «Ахрар аш-Шам» оказались в опубликованном Минобороны РФ списке сирийских вооруженных формирований, подписавших 29 декабря соглашение о прекращении огня. И хотя представители группировки отрицают, что давали на это свое согласие, очевидно, что работа с ними идет.
Это подтверждают и слова замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Как цитирует ТАСС, отвечая на вопрос, означает ли решение «Ахрар аш-Шам», что на нее не будут распространяться условия перемирия, он заявил:
«Это еще не последнее слово, надо подождать… В данном случае важна роль Турции. Они должны обеспечить адекватное участие в Астане тех группировок, которые должны соблюдать режим прекращения боевых действий».
Но, что будет после Астаны? Сможет ли Москва наладить диалог с вооруженной оппозицией без посредников или с минимумом их участия? Ведь нет гарантий, что Турция опять не изменит своим партнерским отношениям с Россией, как это уже не раз бывало, и интересы двух стран не разойдутся. Не стоит доверять и Саудовской Аравии и Катару, тем более, что они не представлены в Астане, как и часть контролируемых ими группировок, включая близких именно к катарцам «Ахрар аш-Шам».
Небескорыстная любовь
Формально на переговорах в Астане политическое будущее Сирии и судьба ее президента Асада не значатся в повестке дня. Это переговоры на экспертном уровне, подчеркивают в Москве. Предполагалось, что в российской делегации, первую скрипку будут играть представители Минобороны. А это значит, что на первый план выходят вопросы тактики, а не стратегии. Тем не менее, возвращаясь к словам Лаврова, полевые командиры, которые приедут в Астану, должны получить право на участие в политическом процессе, который «предполагает разработку конституции, проведение референдума, выборов». Т. е. именно в Астане может начаться формирование будущего скелета сирийской государственности, даже если переговоры покажутся неудачными.
Вопрос о разделе Сирии на данный момент неактуален, но как региональные державы будут делить свои интересы в этой стране? Ждет ли Сирию ливанская модель государственного устройства, когда за каждой партией и каждым министром стоят интересы иностранных хозяев и система работает ровно до тех пор, пока они не начинают выяснять отношения друг с другом? В Сирии, с учетом ее экономической привлекательности, цена влияния будет гораздо выше, чем в Ливане.
Уже сейчас противоречия очевидны. Большой вопрос - удастся ли России соблюсти баланс между своими региональными партнерами (Ираном и Турцией) и при этом отстоять собственные интересы.
Иранцы уже высказались против участия в переговорах представителей новой американской администрации, которых пригласил в Астану Лавров. Тегерану также не нравится резкий крен России в сторону Турции – только недавно стороны обменивались обвинениями в адрес друг друга, а сегодня уже вместе наносят авиаудары. С подозрением к этому относятся и в Сирии, особенно в среде алавитов, испытывающим к туркам неприязнь еще со времен Османской империи. И в Дамаске, и в Тегеране очень недовольны тем, что Россия громогласно заявляет о своих успехах в борьбе с терроризмом в Сирии, пренебрегая ролью сирийских военных и иранских союзников. И если Москва продолжит высказываться в том же духе, добавив к своим словам реверансы в адрес Анкары, это станет болезненным ударом для сирийцев и иранцев.
Трудно представить, что Иран благоприятно отнесется к расширению политического влияния вчерашних полевых командиров, чья идеология прямо противостоит интересам шиитов. Иранцы последние десять лет потратили немало ресурсов, как военных, так и финансовых, чтобы выстроить зону шиитского влияния между Ираном и Средиземным морем (через территорию Ирака, Сирии и Ливана). Во многом благодаря их экономической поддержке президент Башар Асад остается у власти, а сирийская экономика продолжает хоть как-то существовать. И эти деньги невозможно не учитывать в ходе будущих переговоров.
Буквально за неделю до встречи в Астане между Тегераном и Дамаском были подписаны пять крупных экономических соглашений. По данным СМИ, Иран получил право стать третьим мобильным оператором в Сирии, кроме того, достигнуты договоренности о строительстве нефтяного терминала на территории 5 тыс. га, такой же участок выделяется Ирану и под сельскохозяйственные нужды, также как и возможность эксплуатации фосфатных шахт примерно в 50 км к востоку от Пальмиры.
Для сравнения, в последние годы Россия подписала с Сирией соглашения лишь о военных базах. Но даже алавиты - самые верные и фактические единственные союзники Москвы в Сирии, ждут российские инвестиции в их страну. Они надеются, что среди прочего Россия создаст здесь рабочие места, будет активно покупать их сельскохозяйственные товары и поможет им выйти на другие рынки (а это во многом прямая конкуренция с Турцией). Цитирую слова сирийцев: «мы хотим, чтобы Россия была для нас тем же, что и США для Израиля». И хотя сейчас население алавитских районов, предпочтет иметь дело с Россией, а не с Ираном, бескорыстной любви не будет. А кроме христиано-алавитского анклава в районе побережья, безусловной поддержки у России в Сирии нет нигде. А значит жизненно необходимо выстраивать отношения с теми, кто до сих пор считался врагами, при этом не предать старых друзей, найти тонкий баланс между интересами своих партнеров, а по сути соперников, и быть готовыми инвестировать, а не только гордиться тем, что оказали содействие в борьбе с терроризмом в Сирии. Тем более, что часть террористов теперь оказалась за столом переговоров.
КАРТ-БЛАНШ. Эр-Рияд определился с позицией по Астане
Саудовская Аравия опасается планов ИГ сделать столицей "халифата" Мекку
После паузы, показавшейся некоторым обозревателям затянувшейся, саудовское руководство определило официальную позицию в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Ее озвучил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
Королевство, по словам министра, «с оптимизмом относится» к новой администрации США и «надеется сотрудничать с ней по всем вопросам, представляющим интерес для обеих сторон». Эр-Рияд также приветствует намерение Трампа вернуть Соединенным Штатам их былую роль в мире, «абсолютно поддерживает решимость разгромить «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ. – «НГ»)» и тоже «абсолютно» поддерживает слова избранного президента США о необходимости «сдерживать» Иран. Министр подчеркнул, что интересы Саудовской Аравии «совпадают с интересами США, в геополитическом плане – в отношении Сирии, Ирака, Йемена и Ирана, а также по вопросам мировой энергетики и финансов». Вместе с тем в отношении путей и способов достижения общих с США целей есть расхождения, признал он.
Избрание Трампа поставило Эр-Рияд в непростое положение. Как и в Европе, многие в Саудовской Аравии были уверены в победе на выборах Хиллари Клинтон и не считали нужным скрывать свое прохладное отношение к ее сопернику. Хотя в Эр-Рияде не были в восторге и от деятельности администрации Барака Обамы, которой предъявлялись, в частности, претензии в «слишком мягком» отношении к Ирану, саудовский истеблишмент ценил поддержку его жесткого курса в отношении президента Сирии Башара Асада со стороны Клинтон. И в этой связи высказывания Трампа о том, что главной задачей США и международного сообщества в Сирии должно быть не отстранение от власти президента этой страны, к чему призывают в королевстве, а скоординированные усилия по ликвидации террористов, и прежде всего ИГ, были восприняты с настороженностью.
Скорее всего именно деликатность сложившейся ситуации, а также высокая «цена вопроса» потребовали дополнительного времени для выработки официальной позиции королевства. Как стало ясно, в ходе борьбы мнений верх одержали прагматики.
Связям с США в Саудовской Аравии всегда придавали первостепенное значение. Сегодня, когда по многим причинам эти связи оказались ослаблены, к взаимопониманию с Вашингтоном саудовское руководство подталкивает ряд факторов. Это прежде всего ИГ, не отказывающееся от своих планов сделать столицей будущего «халифата» Мекку и таким образом представляющее экзистенциальную угрозу для королевства. Поэтому отказываться от участия в борьбе с ним вместе с США было бы неразумно.
В экономическом плане – понеся большие финансовые потери в период низких цен на нефть и оказавшись перед необходимостью в кратчайшие сроки избавиться от нефтяной зависимости на основе диверсификации экономики, Эр-Рияд остро, как никогда ранее, нуждается в передовых технологиях и инвестициях, прежде всего американских.
И еще одно обстоятельство, которое не вправе упускать из вида Эр-Рияд, – это разгоревшийся в конце 2016 года конфликт, вызванный принятием Конгрессом США закона JUSTA, дающего право американцам, пострадавшим от теракта 11 сентября 2001 года, в судебном порядке добиваться компенсации от правительства Саудовской Аравии. Этот конфликт поставил отношения между двумя давними партнерами на грань самого серьезного в истории их отношений кризиса. Администрации Обамы так и не удалось предотвратить принятие закона, который сразу же был раскритикован самими внезапно прозревшими законодателями. Сегодня саудовские власти заинтересованы в том, чтобы администрация Трампа постаралась устранить этот сильнейший раздражитель в двусторонних отношениях.
При формировании позиции была, видимо, принята в расчет и антииранская риторика нового хозяина Белого дома, вызвавшая удовлетворение Эр-Рияда. Вместе с тем обратили на себя внимание довольно примирительные слова главы саудовского МИДа об Иране. Традиционно обвинив его в «агрессивности и экспансионизме», аль-Джубейр в то же время дал понять, что Эр-Рияд не отказывается от надежд на улучшение отношений. «Было бы замечательно жить в мире и гармонии с Ираном, однако танго можно танцевать только вдвоем», – сказал он. Эти слова могут восприниматься как завуалированное «приглашение на танец» – или намек на готовность к диалогу с Тегераном.
Скорее конструктивными, хотя и острожными можно охарактеризовать прозвучавшие в ходе выступления аль-Джубейра слова о предстоящей 23 января в Астане встрече по мирному урегулированию в Сирии. Эта конференция имеет особое значение в связи с тем, что в ней, как сообщил на недавней пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, примут участие не никого не представляющие лидеры зарубежной оппозиции, как это имело место ранее, а сирийские полевые командиры, оказывающие реальное влияние на ход событий. По мнению саудовского министра, встреча в Астане, имеющая целью обеспечить переход к мирному процессу в Сирии, – это «попытка, которую надо предпринять».
В целом позитивное отношение к усилиям трех стран по примирению в Сирии со стороны Саудовской Аравии – ключевой страны арабского мира, поддерживающей одну из сторон конфликта в Сирии, – увеличивает шансы на успех достижения сирийского урегулирования и открывает перспективу объединения усилий в борьбе против международного терроризма.
Изначально опубликовано в Независимой Газете: http://www.ng.ru/world/2017-01-19/7_6906%C2%AD_er-riad.html