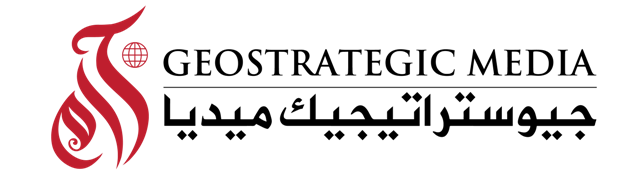Сирийские сюрпризы
 Развитие ситуации вокруг сирийского кризиса преподносит нам все новые неожиданности. Внимание аналитиков сегодня все больше привлекает «мутирующая» конфигурация отношений между глобальными и региональными игроками вокруг сирийского конфликта, главным катализатором чего выступает ситуация в Идлибе. Для системы этих отношений всегда была характерна волатильность, но динамика происходящих сейчас изменений, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, гораздо выше, чем прежде. Коснемся лишь некоторых ключевых аспектов этого процесса.
Развитие ситуации вокруг сирийского кризиса преподносит нам все новые неожиданности. Внимание аналитиков сегодня все больше привлекает «мутирующая» конфигурация отношений между глобальными и региональными игроками вокруг сирийского конфликта, главным катализатором чего выступает ситуация в Идлибе. Для системы этих отношений всегда была характерна волатильность, но динамика происходящих сейчас изменений, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, гораздо выше, чем прежде. Коснемся лишь некоторых ключевых аспектов этого процесса.
Посмотрим на ситуацию с «курдским фактором». Хотя отношения между Россией и сирийскими курдами (как и курдами вообще) носят скрепленный всей их историей дружественный характер, тон оценок, которые дают их действиям в эти дни эксперты, выступающие в российских СМИ, нередко носят критический характер. Этими экспертами не учитываются не только наши давние симпатии к курдскому национальному движению, но даже и то обстоятельство, что курды сыграли важнейшую роль в борьбе с ИГИЛ/ДАИШ (запрещенным в РФ) и другими террористическими группировками, действующими в Сирии. Такая позиция (причем некоторые из экспертов, часто появляющиеся на экранах телеканалов, чудесным образом сменили личину защитников курдских интересов, еще недавно экспрессивно призывавших к немедленному вооружению Россией отрядов YPG, на образ их критиков) связана, в первую очередь, со все более тесным сотрудничеством курдов с вторгнувшимися в Сирию американцами, а также их неспособностью наладить конструктивные отношения с Дамаском. Конечно, сирийские власти тоже несут долю ответственности за то, что переговоры с курдами пока не привели к положительному результату. Правда, говорить о провале этих трудных переговоров преждевременно, тем более с учетом быстро меняющейся обстановки. Но при всем этом следует учитывать, что для России приоритетной всегда является ориентация на легитимных государственных игроков, тем более таких дружественных, как Сирия.
Теперь о США. Самым существенным поворотом в позиции Вашингтона явился фактический отход от взаимопонимания, достигнутого в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным. Американская администрация демонстративно поставила на нем крест. По мнению британского эксперта Аластера Крука, целями новой линии Вашингтона в отношении сирийского конфликта, олицетворением которой стал новый американский представитель по Сирии Джеймс Джеффри, являются: вытеснение из страны Ирана; нанесение сокрушающего стратегического удара по ДАИШ в дополнение к удушающей его экономику экономической «диете»; обеспечение такого политического транзита, в ходе которого будет смещен президент Асад, и, в первую очередь, недопущение даже видимости стратегической слабости США.
С Турцией тоже не все просто. У наблюдателей — так это или не так — создается впечатление, что Анкара начала метаться между Москвой и Вашингтоном в отчаянных попытках отстоять свою линию в Сирии. Это хорошо продемонстрировали результаты российско-турецко-иранского саммита в Тегеране. С одной стороны, Эрдогану вроде бы удалось добиться временной постановки планирующегося масштабного наступления сирийской армии при поддержке России и Ирана на Идлиб на положение стэнд-бай, с другой — Анкара включила «Хай’ат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», она же «аль-Каида») в список террористических организаций, чего ранее делать не хотела. Вероятно, доминирование ХТШ в Идлибе уже не позволяет Анкаре использовать эту организацию для поддержания важнейшего для Турции имиджа защитницы суннитского мира, и если не отмежеваться от нее самым решительным образом, этому имиджу может быть нанесен серьезный ущерб. В то же время Эрдоган сделал все, чтобы эта продиктованная ее национальными интересами уступка партнерам по «тройке стран-гарантов» не могла интерпретироваться как шаг к сближению с сирийским правительством и отход от поддержки сирийской оппозиции. Отсюда демонстративно публичные, резкие заявления турецкого президента с призывами «спасти» население Идлиба от наступления сирийской армии. Так и вспоминается горьковское «С кем вы, мастера культуры?» (кстати, из ответа писателя американским журналистам). При этом Россия и Турция остаются очень важными для друг друга экономическими и политическими партнерами.
Но мастер внешнеполитического маневрирования, которое не мешает ему проявлять твердость в отстаивании своих позиций по стратегическим вопросам, Эрдоган не сможет предотвратить сирийское наступление в провинции. Пауза не будет слишком долгой. Отвечая на атаки боевиков, российские ВВС уже наносят спорадические воздушные удары по их позициям в Идлибе. Турецкий лидер теперь готов участвовать в уничтожении боевиков ХТШ, только, по справедливому замечанию Крука, джихадисты в Идлибе перемешались с местным населением, как это было в Ракке, что не помешало США, Великобритании и Франции в 2017 г. наносить безжалостно сильные бомбово-артиллерийские удары по городу для уничтожения ИГИЛ, когда «число артиллерийских снарядов, выпущенных по городу было больше, чем в любом другом месте после вьетнамской войны». А если Анкара и захочет отделить джихадистов от мирных жителей и тех «умеренных» вооруженных группировок во главе с «Братьями-мусульманами», которые спонсируются Турцией (чего от него ожидают партнеры по тройке стран-гарантов), сумеет ли она сделать это? Возможно ли будет избежать повторения ужасов Ракки и потерь среди мирного населения? Сумеет ли Турция не допустить ситуации, когда через ее границы хлынут новые потоки сирийских беженцев, в дополнение к тем 3,5 млн, которые уже находятся на турецкой территории? А куда двинут уцелевшие джихадисты (вряд ли все будут уничтожены или захотят сложить оружие)? Если они вольются в ряды тех самых «умеренных» вооруженных группировок, примет ли их Анкара под свое крыло?
Президент Трамп и его военно-политическое окружение хорошо понимают, что Дамаск, Москва и Тегеран нацелены на то, чтобы завершить очищение территории Сирии от присутствия террористов. Ведь даже американский спецпосланник по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк говорит, что Идлиб превратился в «самый большой отстойник для аль-Каиды со времени 11 сентября». Необходимо избавиться от тех, кто продолжает регулярно посылать на позиции не только сирийской армии, но и российских военных, современные беспилотники с бомбовым грузом, запчасти для которых поставляются «третьими странами». Понятно, что этому рано или поздно будет положен конец. Однако американский лидер продолжает угрожать Дамаску сокрушительными массированными ударами в том случае, если Башар Асад «развяжет бойню в Идлибе». Лживые измышления о якобы готовящемся использовании сирийской армией химического оружия при наступлении на Идлиб призваны лишь замаскировать готовящуюся провокацию вооруженных группировок с химоружием.
Если попытаться непредвзято посмотреть на вопрос о возможном использовании химоружия в Идлибе, в чем сирийские проправительственные силы и оппозиционные группировки обвиняют друг друга, необходимо отделить военную сторону этого вопроса от политической. В военном плане использование химоружия (даже с самой циничной точки зрения) для Асада не имеет никакого смысла. Во-первых, у него есть гораздо более эффективное для нанесения поражения террористам оружие. Во-вторых, он действует с позиций победителя, который уже взял под контроль большую часть территории страны. В-третьих, от химоружия (тем более от хлорина, о котором идет речь) легко защититься, для чего вооруженным отрядам оппозиции должны быть поставлены соответствующие средства химзащиты. Что не представляет большой проблемы для боевиков, у которых нет недостатка в спонсорах. И боевикам использование химоружия равным образом никак не может обеспечить военной победы над сирийской армией и ее союзниками.
Другое дело — политическая сторона вопроса. Для Асада бессмысленное в военном отношении применение химоружия равно самоубийству: скрыть его невозможно, а неизбежный удар возмездия сведет результаты успешной операции на нет, не говоря уж о непоправимом репутационном ущербе. Ничем не оправданный, бессмысленный риск! Но не для оппозиционных вооруженных группировок. Для них применение химоружия, которое при поддержке западных спецслужб можно с помощью трюка приписать Дамаску, — единственная возможность избежать поражения, втянув в войну с сирийским правительством американцев. Когда я излагал свои мысли некоторым американским коллегам, они не сумели мне возразить. Думаю, что эти аргументы более убедительны, чем то, что у Дамаска нет химического оружия. Да, его запасы были проверенно вывезены и уничтожены. Но хлор чисто теоретически можно легко произвести, если это кому-то необходимо. Только это противоречит интересам Дамаска и элементарному здравому смыслу. А для радикал-исламистов и джихадистов, как было здесь показано, это как раз имеет смысл. В Идлибе их еще остаются десятки тысяч (директор Института исследования национальной безопасности Израиля и бывший начальник военной разведки страны генерал Амос Ядлин называет невероятную цифру окопавшихся тем боевиков одной только ХТШ, или «Нусры — аль-Каиды» в 100 тысяч человек!). Среди них огромная масса выходцев из различных стран мира. А как пишет один из авторов в блоге, редактором которого является бывший сотрудник военной разведки и специальных сил американской армии полковник Патрик Ланг: «У меня есть еще работающие в правительстве друзья, которые надеялись, что Трамп был серьезен, говоря о необходимости вытащить США из сирийского болота. Они надеялись на это в прошлом году. Но не сейчас. Сейчас они находятся в состоянии депрессии и беспокойства». Этот же автор называет «грязным секретом (хотя это и не секрет)» то, что американцы, британцы, саудовцы, катарцы и турки финансировали, вооружали и тренировали мятежников, в том числе и радикал-исламистов, связанных с «аль-Каидой».
К спонсорам вооруженного мятежа в Сирии можно добавить и Израиль. Каждый из спонсоров антиправительственных группировок поддерживает финансами и оружием лишь некоторые из них, «свои». Объемы этой поддержки разнятся. О роли последнего спонсора вплоть до недавнего времени было мало известно, да и сегодня известно не все. Израиль снабжал оружием, вероятно, лишь те группы, которые действуют на юго-западе Сирии. На слуху лишь две из них. Это «Фурсан аль-Джулан» и «Лива Умар бин аль-Хаттаб». Первая из них базируется в городе Джубата аль-Хашаб в районе Кунейтры, а вторая в городе Бейт Джинн, граничащим с горой Хермон. По некоторым данным, оружие поставлялось оппозиционерам из Израиля уже с 2013 г. По утверждению израильского эксперта Элизабет Цурков, Израилю долго удавалось держать свое сотрудничество с этими отрядами, как и сам факт оказания сирийским оппозиционерам военной помощи, в секрете. Поставлялись, в первую очередь, автоматические винтовки американского производства М16, но потом Израиль стал давать боевикам оружие не американское, а якобы все то, что поставлялось Ираном в Ливан для «Хизбаллы» и было перехвачено израильтянами.
То, что Израиль помогает вооруженным, в том числе исламистским, группировкам, не является чем-то необычным для этой страны. Как недавно заявил в программе телеканала ТВЦ бывший директор одной из израильских спецслужб — «Натива» Яков Кедми, Израиль в прошлом сам создал вышедшее из «Братьев-мусульман» ХАМАС для того, чтобы ослабить национальное палестинское движение во главе с «Фатх», выдвинув в качестве альтернативы движение религиозное. ХАМАС, которое он считает террористической организацией.
2017 г. засвидетельствовал резкий рост военной помощи, когда политика Израиля в отношении Сирии стала более агрессивной. Наносились удары по сирийским позициям, нацеленные на те из них, где присутствовали иранцы. Как сказал в беседе один из видных израильских аналитиков, в Израиле понимали, что Москва лишь во имя более важных стратегических интересов «терпела» эти удары, хотя и высказывала свое недовольство. Более того, усилия российских дипломатов и военных по обеспечению отвода иранских советников на глубину до 80 км от израильской границы и размещение в этом районе пяти батальонов российской военной полиции были с удовлетворением встречены в Израиле. Но в Израиле также понимают, что если он продолжит наносить военные удары по Сирии, это в новой ситуации может негативно повлиять на плодотворно развивающиеся российско-израильские отношения: терпение Москвы не безгранично.
Все сказанное не исчерпывает всех происшедших в последнее время существенных изменений и поворотов в обстановке вокруг сирийского кризиса. Как бы то ни было, в ближайшее время мы, возможно, станем свидетелями еще более неожиданных событий.
Статья опубликована в РСМД: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/siriyskie-syurprizy/
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki, Мечеть Омейядов, Дамаск, Сирия, 11 июня 2018 г.
Политика Ирана глазами Израиля
 В последнее время у России сложился конструктивный диалог со всеми центрами силы на Ближнем Востоке – Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Однако между собой эти страны находятся в очень сложных отношениях. Особенно показателен здесь конфликт Тегерана и Тель-Авива. В этих условиях Москве приходится лавировать, чтобы поддерживать в равной степени рабочие контакты и с Исламской Республикой, и с еврейским государством. Чтобы поддерживать этот баланс, России необходимо хорошо понимать позицию каждой из сторон. «Профиль» постарался разобраться в том, что именно лежит в основании взаимной враждебности этих стран, посмотрев на проблему глазами Израиля.
В последнее время у России сложился конструктивный диалог со всеми центрами силы на Ближнем Востоке – Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Однако между собой эти страны находятся в очень сложных отношениях. Особенно показателен здесь конфликт Тегерана и Тель-Авива. В этих условиях Москве приходится лавировать, чтобы поддерживать в равной степени рабочие контакты и с Исламской Республикой, и с еврейским государством. Чтобы поддерживать этот баланс, России необходимо хорошо понимать позицию каждой из сторон. «Профиль» постарался разобраться в том, что именно лежит в основании взаимной враждебности этих стран, посмотрев на проблему глазами Израиля.
Сложности в отношениях Израиля и Ирана, существующие уже многие годы, в последнее время начали перерастать в открытые столкновения. Происходят они на полях Сирии. Присутствие подконтрольных Тегерану сил в этой республике нервирует Тель-Авив и подпитывает конфликт, причины которого принципиальны для каждой из сторон и в ближайшем будущем устранены не будут.
Главным раздражителем служит иранская ядерная программа. Для Израиля принципиально важно оставаться единственным обладателем ядерного оружия в регионе. Израильские ВВС наносили удары по ядерным объектам в соседних странах, чтобы исключить возможность начала там работ по созданию военной программы. Такова была судьба иракского (еще не запущенного) реактора Озирак, уничтоженного в результате военного налета в 1981 году. А совсем недавно израильтяне рассекретили информацию о том, как в 2007‑м разбомбили почти достроенный ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако с Ираном подобное проделать не удалось бы. Во‑первых, Исламская Республика в военном плане намного мощнее Сирии. Во‑вторых, иранские ядерные объекты надежно укрыты, так что для их уничтожения одного авианалета было бы недостаточно.
Опасения Израиля могло бы развеять подписанное в 2015 году соглашение по иранской ядерной программе – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По условиям этой сделки, заключенной между Тегераном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совбеза ООН + Германия), Исламская Республика замораживала свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако большинство израильских политиков и военных сочли этот договор плохим, поскольку он не предусматривал полного уничтожения иранской программы.
Сложившийся после подписания СВПД статус-кво был нарушен, когда Дональд Трамп объявил: США выходят из договора. В Израиле это известие встретили со смешанными чувствами. С одной стороны, там были согласны с тем, что заключенное администрацией Обамы соглашение несовершенно, и, следовательно, намерение Трампа выдвинуть Тегерану новые условия можно лишь приветствовать. Более того, добытые Моссад архивы доказывали, что ядерная программа Ирана была не такой уж и мирной. Получается, что иранцы с самого начала водили переговорщиков «шестерки» за нос, не рассказывая им всей правды. А раз так, значит, при подготовке СВПД не были учтены важные факты и сделку надо пересмотреть. С другой стороны, ничем не спровоцированный выход США из соглашения ставит вопрос: а можно ли верить в силу международных договоренностей? Для Тель-Авива огромное значение имеет сохранение тех немногих соглашений, что были заключены им с соседними государствами (мирные договоры с Египтом и Иорданией; прочие арабские страны не признают Государство Израиль). До сих пор никто в Египте, даже ненадолго пришедшие к власти «Братья-мусульмане» (запрещены в России), сильно недолюбливающие еврейское государство, не собирался отказываться от кемп-дэвидских соглашений. Трамп же создал опасный прецедент, и игнорировать это в Израиле не могут. Кроме того, сделанный Вашингтоном шаг играет на руку иранским радикалам, усиливая их позиции, что также не соответствует израильским интересам.
Для Тель-Авива все это означает неминуемое обострение отношений с Ираном: США далеко, а Израиль под боком, и свое неприятие американских действий иранцы уже продемонстрировали, обстреляв 10 мая позиции ЦАХАЛ на Голанских высотах. Разумеется, эта атака не осталась без ответа. Градус военной напряженности резко повысился. Израиль и до того неоднократно атаковал иранские позиции в Сирии. Но в данном случае столкновение не было обусловлено исключительно двусторонними проблемами. Его можно рассматривать в контексте особых отношений израильского руководства с администрацией Трампа и ужесточения подходов американского президента к Исламской Республике. Обмен ударами между Израилем и Ираном может быть расценен в Вашингтоне как очередное доказательство того, что усиление сдерживания Тегерана оправданно.
Среди израильского политического класса существует консенсус по поводу восприятия Ирана и его курса. В Израиле не забыли безответственные заявления высших иранских руководителей, в частности, президента Махмуда Ахмадинежада, о том, что еврейское государство не имеет права на существование и должно быть уничтожено. И хотя нынешний президент Исламской Республики Хасан Роухани подобных высказываний себе не позволял и даже старался разрядить атмосферу, израильтяне по-прежнему считают, что от Ирана исходит угроза, и относятся к ней серьезно.
Неудивительно, что нарастающую активность Ирана в Сирии, возможность появления там его военных баз и укрепление связей Тегерана с Хезболлой в Израиле воспринимают как вызов. Во‑первых, при таком развитии событий иранская военная инфраструктура окажется у самых израильских границ. Во‑вторых, перспектива начала обстрелов иранцами не только Голанских высот, но и собственно израильской территории приближает Тель-Авив и Тегеран к черте, за которой начинается масштабное военное столкновение. В Израиле, несмотря на хорошую подготовку ЦАХАЛ и эффективность противоракетной системы «Железный купол», совершенно не хотят на практике выяснять, чего будет стоить война с Ираном.
Впрочем, такая война – это сценарий явно алармистский. Иранцы осторожны и, как полагают некоторые израильские аналитики, все же поостерегутся атаковать еврейское государство. Маловероятна и реализация еще одной популярной ближневосточной страшилки – создание «иранского коридора», ведущего через Ирак и Сирию к берегу Средиземного моря. Американцы просто заблокируют этот «коридор» в Ираке.
Война с «Хезболластаном»
Более правдоподобно, что цель Ирана – не развязывание большой войны с Израилем, а превращение Сирии в «Хезболластан», что, конечно, явно противоречит интересам Тель-Авива. Шиитская организация Хезболла – важнейший, с точки зрения Израиля, элемент в раскладе военно-политических сил. Эта группировка тесно связана с Ираном и получает от него вооружение (израильтяне регулярно рапортуют об уничтожении конвоев, доставлявших иранское оружие Хезболле), но при этом имеет собственную повестку дня. Ошибкой было бы считать Хезболлу марионеткой Тегерана.
Хезболла, созданная в 1982 году на базе шиитской общины Ливана, активно участвует в политической жизни страны с 1992 года, когда впервые завоевала места в парламенте. Позже ее представители получили министерские посты, причем постепенно приобрели своего рода «контрольный пакет». В 2011‑м в сформированном после кризиса ливанском правительстве представители Хезболлы получили 18 кресел из 30 и заручились поддержкой выдвинутого ими премьера Наджиба Микати. На президентских выборах 2016‑го Хезболла помогла победить христианину-марониту Мишелю Ауну. В Тегеране эти выборы назвали «великим триумфом Исламского движения сопротивления в Ливане, а также иранских союзников и друзей». По словам советника духовного лидера Ирана, избрание Ауна было «выдающимся достижением» Хезболлы. Не менее удачными для Хезболлы стали парламентские выборы в нынешнем году: она укрепила позиции в парламенте, а возглавляемое премьер-министром Ливана Саадом Харири движение «Аль-Мустакбаль» потеряло свое влияние.
Хезболла – не только политическая партия, но и организация, обладающая более мощным военным потенциалом, чем государственная армия Ливана. По оценке израильских источников (возможно, завышенной), Хезболла располагает 45 000 боевиков, включая 21 тысячу на активной службе, и 100 000 ракет, точность которых постоянно повышается. Тысячи этих ракет – большого радиуса действия. В Израиле неоднократно высказывались опасения, что в следующей войне Хезболла противопоставит израильским ВВС современные системы ПВО. Вывод из этих оценок предсказуем: «Мы имеем дело с настоящей армией».
В Израиле считают, что рост политической и боевой мощи шиитской группировки означает, что больше не стоит рассматривать ее как отдельного игрока: теперь Ливан и Хезболлу можно отождествлять. Это ставит лидера Хезболлы Хасана Насраллу в сложное положение – либо он выбирает ливанскую идентичность и тогда должен более сдержанно вести себя во внешней политике, либо выбирает идентичность шиитскую и втягивает весь Ливан в конфликт.
Это противопоставление «идентичностей» выглядит надуманным, созданным искусственно ради достижения пропагандистских целей. Тем не менее сложно отрицать, что Хезболла, набравшаяся военного опыта в Сирии, – это реальный противник, с которым Тель-Авиву приходится считаться. Израиль неоднократно воевал с Хезболлой, и их последний конфликт, война 2006 года, стал для него серьезным испытанием. Израильская армия тогда так и не смогла одержать убедительную победу, не говоря уже о том, что еврейское государство полностью проиграло информационную войну. Многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение инфраструктуры и потери в рядах ЦАХАЛ – после такого даже у самых ярых израильских «ястребов» не возникает соблазна повторить войну с Хезболлой, особенно в нынешних условиях.
Союзники поневоле
Усиление позиций Ирана и Хезболлы заставляет Израиль принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Но у этой медали есть и другая сторона. Впервые за всю историю арабо-израильского конфликта сложилась ситуация, когда интересы Тель-Авива и его противников из числа суннитских монархий совпадают: все они не хотят, чтобы Иран и связанные с ним силы наращивали влияние на Ближнем Востоке. Хезболлу – доминирующую в Ливане политическую партию – террористической организацией официально считают многие страны не только на Западе, но и в арабском мире (ССАГПЗ, Лига арабских государств).
Монархии Залива, прежде всего Саудовская Аравия, опасающаяся дальнейшей проекции военной силы Ирана в регионе и роста его претензий на роль лидера исламского мира, видят в Израиле партнера по сдерживанию Исламской Республики. Улучшение арабо-израильских отношений происходит, несмотря на то что палестинская проблема так и не урегулирована. Хотя судьба Палестины по-прежнему волнует весь арабский мир, но военно-политическая конъюнктура, изменившаяся из-за усиления Ирана и его союзников, заставила суннитских монархов скорректировать приоритеты.
Это уже почувствовали в самой Палестине. Так, ХАМАС, опасаясь остаться без поддержки арабских покровителей, спровоцировал израильтян на жесткие действия против палестинцев, штурмовавших 14 мая границу с Газой. Таким образом ХАМАС рассчитывал вбить клин в отношения Тель-Авива и арабского мира. Израиль в тот день действительно непропорционально жестко подавил палестинские выступления, убив более 60 человек и ранив сотни безоружных людей. Даже в самом Израиле многие назвали случившееся позором. Тем не менее этот инцидент не привел к такому обострению отношений Израиля с арабскими государствами, которое могло бы поставить крест на их дальнейшем сотрудничестве.
Помимо налаживания контактов с суннитскими монархиями, Израиль сейчас хочет добиться того, чтобы внешние игроки, поддерживающие с Ираном отношения, оказали на него сдерживающее воздействие. Речь прежде всего идет о России.
Во время визита премьер-министра Нетаньяху на празднование Дня Победы в Москве этот вопрос обсуждался с российским руководством. Зеэв Элькин, израильский министр охраны окружающей среды и видный политический деятель, даже назвал его центральной темой переговоров, подчеркнув необходимость противодействия попыткам Ирана закрепиться на северных границах Израиля и наладить по соседству ракетное производство.
Вместе с тем вопрос вывода иранских войск из Сирии не может быть решен в отрыве от вопросов политического урегулирования и стабилизации в стране. Тегеран внес весомый вклад в разгром террористических организаций в Сирии и Ираке, участвовал в создании зон деэскалации в рамках Астанинского формата, способствовал снижению уровня противостояния на земле. Иранские войска и силы Хезболлы находятся в Сирии по приглашению Дамаска, и формально только правительство республики может принять решение о прекращении их присутствия.
На встрече с Асадом в Сочи 17 мая президент Путин назвал условия вывода иностранных войск из Сирии: «Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики».
В Израиле, где к Асаду всегда относились без всякой симпатии, понимают парадоксальность сложившейся ситуации. Сильный сирийский режим не будет заинтересован в том, чтобы на его земле находились иностранные войска. Значит, продолжающиеся попытки западной коалиции и сирийских оппозиционеров ослабить Асада заставляют его искать поддержку Ирана и Хезболлы, закрепляя их в Сирии. Иначе говоря, сейчас Израилю сильный Асад выгоднее, чем слабый, какие бы чувства он лично у израильтян ни вызывал.
Статья опубликована в издании Профиль: http://m.profile.ru/politika/item/125823-politika-irana-glazami-izrailya
Фото: Nabil Mounzer⁄EPA⁄Vostock Photo
Исламоведы проспали политическую активизацию исламского мира и арабскую весну
 Исламоведы несколько раз проспали интересные повороты в развитии исламского мира.
Исламоведы несколько раз проспали интересные повороты в развитии исламского мира.
…
В нашей стране не так много светских исламоведов. У нас есть внутреннее исламоведение – внутри самой исламской уммы. Есть и светское исламоведение, представленное немусульманами, но среди них есть немало отличных специалистов. Любая система нуждается во внешнем рецензенте.
…
Изменения происходят очень быстро. Арабскую весну никто не предвидел. Кто мог предвидеть, что три могучие страны арабского мира Египет, Сирия и Ирак придут к такому развитию событий?! Мои коллеги считали, что американское присутствие на Ближнем Востоке базируется на интересах в сфере энергоресурсов.
…
Но США уже сегодня производит больше газа, чем Россия. Россия, Иран и Катар уже не находятся в первой тройке по производству газа. Первая – Америка, и уже начинает экспортировать сырье. То же самое произойдет с нефтью. Американцы через 10 лет будут производить 16-17 млн. баррелей нефти в день.
Поэтому говорить, что у них на Ближнем Востоке все завязано не нефти и газе нельзя. Но интерес они не потеряют. Им важен транзит, кто будет покупать эту нефть. Многие государства исламского мира хотят, чтобы американцы обеспечивали их безопасность.
…
Не считаю, что будет III мировая война. Думаю, ядерная война не произойдет, они никому не нужна. Все хотят жить. Конфликтность и соперничество в мире растет. Вода – становится источником конфликтов. Тем не менее, считаю, что мы идем к другому мироустройству, но пока предугадать не можем. Здесь высока роль лидеров. К сожалению, западные партнеры не показывают примера мудрости.
…
Ислам неотделим от политики. Ислам всегда был связан с проблемой власти. Разобщенность в исламе началась с политических, а не вероучительных проблем. На Ближнем Востоке три неарабские страны вырвались в лидеры, что очень обидно арабам. Это Турция, Иран и Израиль. Политический ислам раскололся на ряд противостоящих друг другу течений.
…
Я сторонник модернизации ислама, отказа от определенных догм, которые мешают мусульманам вписаться в современный ритм и модель жизни. Есть отжившие вещи в догмах, созданными людьми, а не в божественном писании находятся. Пока некоторые страны не откажутся от этого, будут трудности. То, как в Саудовской Аравии относятся к женщинам рано или поздно закончится, так же как телесные наказания в отношении мусульман исчезнут.
…
Крестовые походы – сильнейший толчок в развитии Европы. Европейцы многому научились у мусульман. Французские крестьяне мыться не умели нормально, нормальные ткани увидели. Я уже не говорю об интеллектуальном вкладе. Взаимообогащение происходит во время столкновения западного и мусульманского мира.
…
Ряд арабских государств склонны считать большим врагом Иран, нежели Израиль. Это серьезный поворот в стратегии государств. Это сказывается на поведении Израиля. Для него кошмар роль Ирана в Сирии. Он бы хотел вытеснить оттуда «Хезболлу», которая помогает сирийскому правительству. Юг Сирии для Израиля приоритетен.
…
Даже представители прозападных элит признают, что Россия играет возрастающую роль в мире и на Ближнем Востоке. Мы укрепились в ОИК. Благодаря нашей роли в различных конфликтных ситуациях мы приобрели иные возможности.
…
Молодые люди, которые принимают ислам, испытывают большое разочарование в том образе жизни и ценностях, которые насаждаются в западной цивилизации.
…
Переговаривающиеся по Сирии стороны очень далеки. Без деталей. Пока далеки. Шанс договориться всегда есть.
…
Бессмысленно навязывать мусульманам объединение в рамках одного муфтията под воздействием человека, который по определению не является таким, как, скажем, Папа Римский, такого в исламе нет.
Материал опубликован на портале OnKavkaz: https://onkavkaz.com/news/2223-vitalii-naumkin-islamovedy-prospali-politicheskuyu-aktivizaciyu-islamskogo-mira-i-arabskuyu-ves.html
О новой тройственной агрессии в Сирии
 Демонстрационный эффект от удара США и их союзников по Сирии был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО. Это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, считает эксперт клуба «Валдай», научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.
Демонстрационный эффект от удара США и их союзников по Сирии был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО. Это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, считает эксперт клуба «Валдай», научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.
Нет ничего удивительного в том, что любые действия Запада против Дамаска воспринимаются сегодня в России как инструменты борьбы с нашей страной, становящейся в последние годы едва не ключевым игроком на Ближнем Востоке.
В выступлении Терезы Мэй после начала ударов по территории Сирийской Арабской Республики обратило на себя внимание упоминание – в контексте якобы явившегося целью военных действий коалиции – о предотвращении использования химоружия также и на «территории Великобритании». Это свидетельствовало о том, что британский участник «новой тройственной агрессии» увязывает её с кампанией против Москвы, которую Лондон с упорной бессмысленностью продолжает обвинять в мнимом использовании химоружия на территории Великобритании.
Мне странно, что англичане не видят огромного числа несостыковок в своих версиях в историях как со Скрипалями, так и с пресловутым использованием химического оружия сирийской армией. Странно потому, что Великобритания является самым опытным государством, использовавшим химическое оружие на Ближнем Востоке. Конечно, это было очень давно. 17 апреля исполняется сто один год с того момента, как британская армия начала применять хлорин против турецких войск в Палестине, в ходе так называемого Второго сражения в Газе. Правда, это не обеспечило им военного успеха (тоже интересный урок). На Ближнем Востоке об этом помнят, хотя официально химическое оружие было запрещено только Женевским протоколом в 1925 году. Но и после Первой мировой войны, в августе 1919 года англичане использовали химоружие в ходе интервенции на севере России, а в 1920-е годы – против иракских повстанцев. Справедливости ради заметим, что, как мы знаем, они не были в этом одиноки.
О нынешней интервенции союзников уже много сказано, но нужно время, чтобы разобраться во всех её деталях. Ясно, что демонстрационный эффект ими был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств последнего времени (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО (далеко не самыми современными и совершенными, системами, произведёнными в России/СССР более трёх десятков лет назад – по данным российского министерства обороны, 71 из 103 крылатых ракет). Плюс для американцев здесь лишь в том, что предприятия американского ВПК получат много новых заказов на производство «Томагавков». Большинство ударов было предусмотрительно нанесено с морских и воздушных носителей, находящихся за пределами территории Сирии.
Но это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей. Вероятно, на основании каких-то договорённостей, о существовании которых можно только догадываться, нашим военным не пришлось самим вовлекаться в военные действия и прибегать к использованию самых совершенных зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Ракетно-бомбовые удары чудесным образом не привели к жертвам среди не только российских военных и гражданских специалистов, но и сирийских военнослужащих. Правда, они вызвали восторг среди боевиков, надеющихся, что фарс с использованием химического оружия удастся повторить, и Вашингтон с союзниками проведёт новую военную кампанию.
В то же время командиров вооружённых группировок разочаровало заявление американского президента о том, что эта акция не преследовала цель «смены режима» и к тому же носит единичный, пунитивный и предупредительный характер. Если ещё раз обвинить Асада в использовании химоружия не удастся, спрашивают они, значит он, показав свою силу и победив в Восточной Гуте, теперь может действовать ещё более уверенно? Существенно, что Москва теперь может вернуться к вопросу о поставках Сирии систем С-300, от чего она воздерживалась с учётом озабоченностей некоторых партнёров (Израиля).
Надо заметить, что несмотря на острую риторику, все конфликтующие стороны в разной степени проявили в ходе последних событий сдержанность и ответственность, не допустив эскалации. Россия и сегодня, если судить по сделанным официальными лицами заявлений, намерена действовать исключительно дипломатическими, а не военными методами. В ближневосточном регионе даже среди союзников США крепнет недовольство самочинными действиями Вашингтона: к нарушению суверенитета глобальными игроками здесь в принципе относятся негативно, даже если из тактических соображений некоторые соседи Сирии и Ирана хотели бы их ослабления.
Тем не менее тройственной коалиции, пусть и тоже частично, удалось добиться ещё одной из поставленных её руководителями задач – вбить клин в отношения между участниками «тройки»: Россия, Турция, Иран. Турецкое руководство предсказуемо поддержало ограниченные удары по сирийским объектам. Но, собственно говоря, различия в позициях трёх государств в отношении сирийской проблемы и до этого было невозможно скрыть. И уже тот факт, что формат их сотрудничества как «государств-гарантов», несмотря на эти различия, не только сохранялся, но и продолжал развиваться, в основном объяснялся цементирующей ролью Москвы, умело выруливавшей из опасных поворотов с помощью дипломатии астанинского процесса и мощной динамики двусторонних отношений.
О «тройственной агрессии»
31 октября 1956 года Великобритания и Франция присоединились к Израилю, начавшему военные действия против Египта, лидер которого незадолго до этого национализировал Суэцкий канал. В ходе военной кампании, получившей название «тройственной агрессии», члены коалиции подвергли бомбардировке Каир, Александрию и города зоны канала. Сейчас, когда 14 апреля 2018 года против другой арабской страны началась «новая тройственная агрессия», параллели напрашиваются сами собой.
Кстати, закончилась та, прежняя кампания для её организаторов бесславно, но не зря говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. В отличие от англо-франко-израильской агрессии против Египта 1956 года, сторонами новой стали США, Великобритания и Франция. Израиль, несмотря на его известную враждебность Дамаску, в этих событиях не участвовал. Кроме того, в 1956 году позиции СССР и США, как ни странно для эпохи биполярного мира, были близки друг другу.
Коль скоро мы заговорили об уроках истории, вспомним ещё один её ближневосточный эпизод. В июле 1958 года в Ираке – самом центре созданного в 1955 году Багдадского пакта (или СЕНТО, в котором ведущую роль играла Великобритания) – произошла антимонархическая революция под руководством Абдель Карима Касема. Она была воспринята на Западе как продолжение суэцкого, 1956 года, триумфа Гамаля Абделя Насера и сильный удар по позициям Запада, поскольку направленный против СССР Багдадский пакт уходил в небытие.
Эйзенхауэр не разделял панических настроений Черчилля, предсказывавшего, что теперь весь Ближний Восток, если Запад не предпримет решительных действий, может скоро оказаться под советским контролем. Он опасался революционного «эффекта домино», подобного тому, что имело место в Юго-Восточной Азии. Высадка 20 тысяч американских морских пехотинцев в Ливане для поддержки лояльного Западу президента Камиля Шамуна и десантирование 6 тысяч британских парашютистов в Иордании для поддержки короля Хусейна сразу же после свержения монархии в Ираке подтверждали серьёзность этих опасений. Теперь, через два года после Суэца, США и Великобритания вновь действовали совместно и обсуждали планы возможной военной интервенции в Ираке.
Однако в отличие от Макмиллана Эйзенхауэр не проявлял решимости прибегнуть к военной силе: его доктрина 1957 года не предполагала, что США на практике будут непременно использовать военную силу для свержения коммунистических или левых режимов. США явно предпочитали открытой военной интервенции тайные операции спецслужб. Кроме того, США не хотели терять моральный капитал, который они приобрели в арабском мире после Суэца. Их репутация стала ухудшаться лишь в самом конце 1950-х годов, когда они, как и Великобритания, стали занимать явно произраильскую позицию. Но госсекретарь Даллес открыто говорил о необходимости дистанцироваться от европейского колониализма.
Касем, ударивший по самому центру антисоветской блоковой системы на Ближнем и Среднем Востоке и к тому же установивший неплохие отношения с местными коммунистами, был для Москвы хорошим кандидатом в новые союзники. Международный кризис вокруг Ирака в 1958 году был значительно более серьёзным, чем принято считать. Советский Союз выступил с резкими угрожающими предупреждениями насчёт англо-американской интервенции в Ираке. Решения в советском руководстве принимались непросто: представление о том, будто в то время при обсуждении вопросов внешней политики на политбюро ЦК КПСС господствовало единомыслие, было связано исключительно с засекреченностью материалов его заседаний.
Повторяя опасения военных, которые высказывались ещё в 1957 году, маршал Ворошилов на заседаниях заявлял, что ему не нравится направленность политики советского правительства на Ближнем Востоке и что частое повторение угроз в адрес Запада их обесценивает (имелись в виду два заявления советского правительства). Он считал, что поддержка прогрессивных режимов на Ближнем Востоке может иметь для Советского Союза катастрофические последствия, спровоцировав войну с США. Другие члены политбюро также не хотели войны, но считали, что лучший способ избежать её – постоянно угрожать США. Эту точку зрения поддерживал Хрущёв. Микоян говорил, что США размышляют, пойти ли им на интервенцию в Ираке, и ставят это в зависимость от того, будет ли СССР в этом случае воевать в защиту этой страны. (Несчастный Ирак впоследствии ещё несколько раз становился объектом силовой акции Запада.) Ворошилов же утверждал, что Запад уже принял решение о вмешательстве, поэтому не надо рисковать, чтобы тем самым не стать обязанными вступить с США в открытое военное столкновение.
Можно предположить, что вероятность столкновения великих держав из-за Ирака была тогда вполне реальной. Именно страх перед возможной военной англо-американской интервенцией лежал в основе обращения Хрущёва к лидерам шести государств на конференции в Женеве 22 июля. Было принято решение об оказании военной помощи Ираку, а доставка вооружений и военной техники осуществлялась при помощи Египта. В то же время советское руководство спокойно отнеслось к отправке американских и британских войск в Ливан и Иорданию.
Между западными державами не было согласия и по вопросу о признании Ирака. Когда вопрос об интервенции был снят, Англия считала необходимым признать Ирак, чтобы не толкать его в объятия СССР, США же не хотели торопиться, чтобы не вызвать обиду у лидеров Ирана и Турции. Тем не менее и США пошли на признание нового режима. Но уже активно шло советско-иракское сближение, и под влиянием Москвы Касем уже согласился сотрудничать с местными коммунистами.
Для Хрущёва огромное значение имела асимметрия иракского кризиса. Признание Ирака Западом было расценено как политическая победа СССР, советский лидер стал действовать на международной арене гораздо более решительно, что особенно ярко проявилось во время кубинского кризиса (где всё же победил разум). Был сделан вывод, что Запад хотел силой свергнуть иракский режим, но отступил под советским давлением, и что мощное политическое давление является единственным языком, понятным для западных соперников СССР. Таким образом, Ирак сыграл важную роль в холодной войне. В новой холодной войне похожую роль играет Сирия.
Точка в сирийском конфликте и в том, что происходит вокруг него, ещё далеко не поставлена. Но одностороннее использование военной силы не может приблизить день, когда этот конфликт удастся урегулировать.
Статья опубликована на сайте клуба "Валдай": http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/naumkin-agressiya/
Фото: Hassan Ammar/AP
Безальтернативная хрупкость: судьба государства-нации в арабском мире
 Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
События последних лет — кризис на Украине, референдум о независимости Шотландии, рост сепаратистских настроений в других странах Европы, и прежде всего в Испании, — актуализировали дискуссию о путях развития и кризисе модели национального государства. Гражданские войны, охватившие Ближний Восток, разрушение государственности Ливии, отчасти — Ирака и Йемена, глубокий ее кризис в Сирии и в других странах, возникновение и быстрое усиление «Исламского государства» (ИГ) сделали ее особенно актуальной для арабского мира. Сам тезис о кризисе ближневосточной модели национального государства был выдвинут в известной статье В.В. Наумкина «Цивилизации и кризис наций-государств» http://www.globalaffairs.ru/number/Tcivilizatcii-i-krizis-natcii-gosudarstv-16393. В значительной степени инициированные этим текстом дискуссии ведутся сегодня, в основном, вокруг двух проблем. Во-первых, если согласиться с тем, что сейчас происходит разрушение системы Сайкс-Пико, то какая иная система может прийти ей на смену? И во-вторых, является ли ИГ прообразом альтернативной государственности для региона, не только угрожающей существующим режимам, но и предлагающей некий позитивный проект?
Ответы на эти вопросы требуют прежде всего анализа существующей в арабском мире модели (или моделей) государственности.
Национальное государство в арабском мире: к определению модели
Ставший уже общим местом в экспертной среде (и не только в ней) тезис о «конце Сайкс-Пико» в реальности означает нечто гораздо большее, чем констатацию упразднения границ, установленных европейскими державами. Речь, в сущности, идет о разрушении всей модели государственности, сформировавшейся в эпоху колониальной зависимости. При этом не имеет значения, в каком отношении модель эта появилась благодаря, а в какой — вопреки колониальным властям.
Действительно, основные современные институты государственной власти в таких странах, как Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Алжир, отчасти — Ливия, были созданы европейцами или под их давлением. Даже в Египте или Тунисе, где реформы начались в доколониальный период, западное присутствие оказало существенное воздействие на политическую архитектуру.
Однако вместе с тем колониальные власти не ставили себе задачей проведение быстрой модернизации социальной сферы и, напротив (особенно в британском варианте колониализма), были склонны использовать традиционные этноконфессиональ- ные или трайбалистские линии раскола для взращивания лояльных групп в местном обществе.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в получивших независимость позже других монархиях Залива, где британские власти непосредственно вмешивались в межплеменные отношения и в династическую борьбу. Однако роль своеобразных «агентов» Запада играла и христианская компрадорская буржуазия в Ливане, и суннитская элита в Ираке, а о необходимости поддержки межплеменных и межрасовых разногласий в Судане в британском парламенте говорилось прямо.
Такой подход, частично модернизировавший систему управления, но консервировавший традиционные идентичности, а вместе с ними и социальные противоречия, в значительной степени определил специфическое лицо арабской государственности и присущие ей внутренние противоречия.
Национально-освободительные движения, получившие мощный импульс к развитию после Первой мировой войны, также были продуктом модернизационного проекта и в идейном плане зависели от европейской общественно-политической мысли. Те из них, что сумели стать реальными акторами политической жизни соответствующих стран, не пытались противопоставить внедрявшейся западной государственности какую-то альтернативу, но, напротив, стремились к тому, чтобы обрести полноту этой государственности. В сущности, речь для них прежде всего шла об обретении равных с европейцами прав. Отсюда и восторг по поводу «14 пунктов В. Вильсона», и активные дискуссии в Алжире, Тунисе, Ливане о том, надо ли добиваться независимости, или, напротив, необходимо стремиться к полной интеграции в метрополии, или же настаивать на широкой автономии.
Все это подготовило почву для оформления национальной государственности на Арабском Востоке, в основном уже после Второй мировой войны. Реализация ее, однако, затруднялась двумя обстоятельствами.
Одно из них заключалась в том, что при наличии определенных инструментов государственного строительства, сама идея нациогенеза в регионе укоренена была слабо. Отчасти дело тут было в изначальном несоответствии европейского понятия «нация» (хоть в его «биологическом», хоть в «социальном» понимании) и арабского понятия «умма» [umma](см. далее), отчасти в том, что модернизационный проект в большинстве стран региона начал реализовываться уже после получения независимости.
Первым следствием такой ситуации, сложившейся в условиях интеграции провозгласивших свою независимость государств в мирополитическую систему (что диктовало, среди прочего, необходимость идейно-политической самоидентификации), стало формирование специфических гибридных идеологий нациестроительства.
Основными такими конкурирующими идеологиями стали: панарабизм (насеризм, баасизм, южнойеменский марксизм), регионализм (идеи единства Великой Сирии, Благодатного полумесяца, Долины Нила, Магриба и т.п.) и страновой национализм (особенно в Тунисе). Четвертой альтернативой выступал панисламизм, специфическим образом имплементировавший исламскую концепцию религиозной уммы в европейский националистический дискурс. Более маргинальное положение занимали идеи неарабского этнического национализма (берберского, курдского и т.п.), внутригосударственного регионализма (Триполитания и Киренаика в Ливии и т.п.), а также панрегионализма (например, средиземноморского единства (Ливан, Тунис) или африканской идентичности (Марокко, Египет, Судан).
В отдельных случаях эти идеологии не только конкурировали друг с другом, но и дополняли одна другую, как дополняли друг друга идеи панарабизма и египетского эксепционализма (fir'auniya).
Все эти идеологические построения, сколь бы оригинальными они ни были, создавались в рамках европейской общественно-политической мысли, в категориях которой их авторы пытались описать (или сконструировать) региональную реальность. Именно поэтому в большинстве этих концепций вопрос о нации был лишь элементом более общей (иной раз — тотальной) идеологической конструкции, интерпретировавшей тем или иным образом идеи великих европейских идеологий.
При этом перенесение на ближневосточную почву европейских концепций, очевидно, требовало их адаптации к особенностям многоукладных обществ. Так, обращаясь к общественно-политической мысли левого толка, арабские политики, как правило, отказывались от идеи межклассовой борьбы, пытаясь выстроить корпоративное государство; практически никогда они не уничтожали полностью частный сектор в экономике; и наоборот, при всех моделях экономической либерализации доля государственного сектора оставалась очень высокой. Наконец, совершенно неприемлемым для местных условий оказывался атеистический дискурс левых.
Однако, несмотря на всю разнонаправленность этих гибридных идеологий, на практике ни одна из них не вела к отрицанию принадлежности соответствующей страны к арабскому и исламскому миру, что в институциональном плане проявлялось в членстве государств в ЛАГ и ОИК (ОИС). Конечно, на практике арабская и исламская идентичности могли означать совершенно разные вещи. Ислам мог пониматься как ценностная основа всей социально-политической системы (например, Саудовская Аравия), а мог - просто как составляющая часть культурно-исторического наследия общества (баасистская Сирия, бургибов- ский Тунис и т.д.). Точно так же и принадлежность к арабскому миру могла определяться как основной цивилизационный маркер (например, у насеристов или баасистов), а могла — как один из маркеров, равный другим (средиземноморским, африканским, исламским и пр.).
Это общее понимание арабо-мусульманской цивилизационной принадлежности, существовавшее в условиях доминирования существенно различающихся между собой гибридных идеологий, позволяет говорить о существовании общей модели идеологического нациестроительства.
Вторым следствием незавершенности нациогенеза (и гибридного характера идеологий) стал дефицит легитимности государств региона.
Существование каждого из них никогда не было безусловным, никогда не рассматривалось как абсолютно естественное — отсюда бесконечные дискуссии об объединении или, наоборот, разделении тех или иных стран — одних проектов объединения нескольких государств в рамках федерации или конфедерации можно назвать более десятка. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев проекты эти оставались неосуществленными. Исключение составляет краткий и не очень успешный опыт существования ОАР, болезненное объединение Северного и Южного Йемена и вполне успешный, хотя и специфический проект ОАЭ. Если само появление проектов объединения или, напротив, сепарации было связано с поисками национальной идентичности, которыми была пронизана вся арабская общественно-политическая мысль приблизительно в первые две трети XX века, то причины их нереализованности состояли как раз в специфике политической и социально-экономической реальности региона. В этой реальности существовал определенный набор в основном вполне признанных государств, каждое из которых развивалось в собственной логике и политические системы которых, их экономические и социальные структуры по мере развития все более дифференцировались (достаточно сравнить в этом отношении траектории развития Саудовской Аравии и, например, Сирии).
Другое обстоятельство, препятствовавшее оформлению современной государственности, было связано с вышеупомянутым несоответствием социального уклада и государственных институтов.
Понятно, что асинхрония социально-экономического и политического развития арабских стран проявлялась в разной степени и по-разному. В государствах Залива, изначально демонстрировавших относительную гармонию социально-экономической и политической сфер, рост нефтяных доходов и необходимость включения в мир-систему вели к тому, что экономическая модернизация значительно опережала политическую. В арабских республиках-нефтеимпортерах, а также в Алжире ситуация была прямо противоположной — современные политические институты в них действовали в условиях в основном традиционного общества. Наконец, в Марокко и Иордании и политическая система, и социум сочетали в себе признаки традиции и модерна.
Описанная дисгармония развития имела своим следствием непреходящую многоукладность и усиливающуюся фрагменти- рованность арабских социумов.
Рост доходов и качества жизни широких слоев населения в арабском мире в последние два-три десятилетия (в период неолиберальной экономической политики и роста цен на углеводороды) привел к повышению покупательной способности и увеличению спроса главным образом на западные товары3. В социально-политическом отношении итогом этого стало повышение действенности инструментов «мягкой силы» государств Запада4, распространение некоторых элементов западного образа жизни и ценностей, что повлекло за собой угрозу размывания традиционных идентичностей и социальных связей и — по принципу вызова-ответа — их актуализацию и усиление социальной фрагментации.
Дополнительным стимулом для такой фрагментации стал бюрократический характер большинства арабских режимов, в которых возможность производства богатств определялась не успехами среднего бизнеса в инновационном развитии, а наличием у него доступа к центрам политической власти, что, в свою очередь, укрепляло патриархальные связи и клановость.
Впрочем, в значительной степени поддержание фрагмен- тированности, конфессионализма, патримониальных и неопатримониальных расколов было и элементом сознательной стратегии режимов, позволявшей им поддерживать авторитаризм. Сохранение статуса подданных, препятствовавшее развитию гражданского самосознания, осуществлялось по-разному в разных странах, однако результатом неизменно оказывалось подавление плюрализма и непреходящая диктатура большинства, обеспечивавшая сохранение авторитаризма.
В странах-нефтеимпортерах, а также отчасти в Ливии и Алжире социальная фрагментация развивалась в условиях деидеологизации режимов, приобретении ими постмодернистского характера, когда элементы самых разных идеологических дискурсов использовались элитами для достижения прагматических целей5. В совокупности с либеральной экономической политикой идеологическая эклектика привела к формированию общества потребления, развитие которого, однако, в отличие от стран Запада, не было обеспечено экономическим потенциалом (опять-таки кроме Ливии). Результатом всех этих процессов стал серьезный ценностный кризис многих арабских социумов, растущее ощущение фрустрации (особенно в сфере семейнобрачных отношений) и относительная депривация, ставшая в итоге одной из основных причин событий «арабской весны».
Другим следствием дисгармонии социально-политического развития стали определенные институциональные дисбалансы, при которых отдельные институты государственной власти (армия, бюрократия, отчасти институты, обеспечивающие социально-экономическую поддержку населения и развитие) оказывались значительно более развиты, чем другие (политические партии, выборы, институты гражданского общества).
Вообще, если рассматривать новейшую историю арабского мира через призму развития институтов, то, по всей видимости, в ней можно выделить несколько основных этапов.
Первый - это вышеупомянутый колониальный период и первые годы независимости, когда были созданы базовые верхушечные институты управления, опирающиеся на привилегированные социальные группы (обычно представленные местным населением, но в некоторых случаях (Алжир, в меньшей степени — Тунис, Ливия) — европейцами). Политические партии и движения, возникавшие на этом этапе, либо представляли собой клубы вестернизированной элиты (например, в Ливии, где они возникали на основе элитарных спортивных клубов), либо служили вестернизированной декорацией для традиционных структур (например, в Судане).
Второй — это период «авторитаризма развития» (1950- 1960/70-е годы), характеризовавшийся укреплением институтов государственной власти, возникновением суперпрезидентских республик, становлением однопартийных систем, концепции корпоративного государства, укреплением силовых структур и их политизацией.
Окончание этого периода было связано в большинстве случаев с кризисом панарабизма после поражения арабских армий в войне 1967 года, а также с изменившейся международной конъюнктурой, заставившей режимы провести либеральные экономические реформы в 1970-е годы.
Третий — это период гибридного авторитаризма, или «фасадной демократии» (1980-2010), характеризовавшийся формальным введением многопартийности, становлением доминантно-партийных систем, развитием институтов гражданского общества в ряде стран, частичной деполитизацией силовых структур.
Относительная либерализация политической сферы в этот период была связана с целым рядом факторов, среди которых особо стоит отметить естественную смену поколений (к середине 1970-х годов в активный возраст вошло первое поколение, родившееся в период независимости и требовавшее политического участия), идеологический кризис и распространение исламизма в 1980-е годы (связанное с советским вторжением в Афганистан и исламской революцией в Иране), крах биполярной системы и превращение демократии в своеобразное sine qua none нового миропорядка.
Важным элементом развития государственности на этом этапе стало постепенное становление институтов гражданского общества в 1990-2000-е годы, вызванное ростом благосостояния граждан, большей открытостью государств, восприятием образованными слоями общества западных ценностей и норм поведения.
Отчасти появление этих институтов было инициировано самими режимами, пытавшимися таким образом манипулировать обществами, но основную роль здесь все же сыграла модернизация социальной сферы, развитие системы образования и т.д. Так, например, число зарегистрированных волонтерских организаций в арабских странах выросло в период 1995-2007 годов со 120 000 до 250 000. Активность этого формирующегося гражданского общества, изначально направленная в основном на социальную сферу (благотворительность, поддержка неимущих, социальные проекты), была во многом связана с деятельностью исламистских организаций («Братья-мусульмане» в Египте, «Хизбалла» в Ливане, ХАМАС в Палестине, исламские благотворительные фонды и т.д.). Однако постепенно — в 2000-е годы — и уже вне всякой связи с исламистами она начала распространяться и на другие сферы, прежде всего на защиту гражданских прав населения. По мере информатизации стали формироваться альтернативные официальным независимые СМИ и интернет-ресурсы, большую протестную активность в ряде стран демонстрировала корпорация адвокатов, начали появляться (полу-) независимые НПО, защищающие права женщин и т.д. В конце 2000-х годов (особенно в 2008 году) в таких странах, как Египет и Тунис, фиксируются массовые забастовочные движения, задавленные властью, но поддержанные гражданским обществом.
Вместе с тем этот процесс развития гражданского общества затронул разные страны в неодинаковой степени и где-то вообще был незаметен. Так, в Саудовской Аравии и некоторых других государствах Залива независимые гражданские организации были запрещены или представляли собой контролируемые властью формы организации родоплеменных, этноконфес- сиональных и других традиционных социальных групп.
Приведенная периодизация — это, конечно, своеобразный «идеальный тип», обнаружить который в реальной политической истории каждого отдельно взятого государства региона едва ли возможно. В наибольшей степени к нему приближаются Египет и Тунис, отчасти Алжир. Впрочем, и в них все обстояло по-разному. Так, в Тунисе армия всегда оставалась деполитизированной, а гражданские институты оказались, несомненно, более развитыми, чем в других странах, — еще в период борьбы за независимость профсоюзы представляли собой вторую по величине гражданскую организацию страны (первой была партия «Новый Дустур»), а на протяжении всего независимого развития они оставались главным каналом обратной связи между обществом и властью. В Алжире, несмотря на все реформы и всю модернизацию, традиционные связи, племенной кпиентелизм остаются основой не только социальных, но и политических отношений на локальном и региональном уровнях и сегодня. Вместе с тем в таких монархиях, как Марокко или Иордания, активное развитие современных демократических институтов политической власти (в особенности в Марокко) оказывается возможным именно благодаря институту монархической власти, обретающему легитимность и завоевывающему лояльность общества посредством традиционных инструментов (в том числе через хашимитское происхождение династий). В Сирии либерализации политической сферы так и не произошло, в Ираке обвальная демократизация была вызвана иностранной интервенцией, ливийская политическая система, выстроенная М. Каддафи, основывалась на принципиальном отказе от создания общепринятых институтов политической власти, а специфические джамахирийские институты, по сути дела, служили формой мимикрии традиционных племенных отношений. Что касается монархий Аравийского полуострова, то там институты развивались в описанном направлении, однако очень медленно: процесс начался позже, общество практически не было модернизировано, а нефтяная рента позволяла долго консервировать традиционный уклад. Наконец, особый случай составляет Ливан, где парадоксальным образом произошло активное развитие гражданских институтов (в основном на традиционной этноконфес- сиональной основе), однако институты государственной власти оказались очень слабыми, что привело к перманентному политическому кризису.
Фрагментированность арабских обществ в совокупности с дисгармонией институционального развития и эклектичностью режимов привели к формированию так называемых множественных государств (multiple states) в регионе. Описывая их, С.К. Фарсум говорит о существовании трех государств в одном.
Первое — это так называемое историческое государство, где традиционная бюрократия функционирует как инструмент политического патронажа, а правящая элита использует патронаж, чтобы консолидировать свои позиции и добиться солидарности и поддержки от разных слоев общества. Второе — это «современное государство» (modern state), представляющее собой конгломерат автономных или полуавтономных бюрократических ведомств. Это государство технократов, зачастую получивших западное образование и ориентированных на развитие местной буржуазии. Оно выполняет две важнейшие функции: планирование, финансирование и создание новых экономических предприятий и инфраструктуры; и организация проектов, их финансирование и управление бюрократией в сфере социальной поддержки населения. «Второе государство» играет ключевую роль в поддержке своеобразного договора об обмене экономических благ на политические права, гарантировавшего консолидацию режимов. Наконец, «третье государство» — это в сущности своей репрессивный аппарат, представляющий собой закрытую касту, защищающую правящую элиту.
Помимо этих трех государств сегодня имеет смысл говорить еще как минимум о двух.
Во-первых, это государство креативного класса, составляющее основной субстрат для активно развивающегося гражданского общества. Оно относительно независимо от первых трех государств, модернизировано, интегрировано в западное информационное пространство в большей степени, чем другие, разделяет либеральные ценности (обычно — в их леволиберальной интерпретации). Занятость в интеллектуальной сфере в относительно независимых от государства секторах экономики, прочные связи с западным миром обеспечивают некоторую автономию этого класса.
Во-вторых, это традиционное государство, сохраняющееся в сельской местности и в пригородах городских агломераций, куда переселяются вчерашние сельчане, воспроизводя здесь традиционные модели социальных отношений. Если для креативного класса характерен усиленный индивидуализм, то эти традиционные слои общества, напротив, обыкновенно социоцентричны. Однако подобно последним они сохраняют значительную автономию от первых трех государств, подчас мало интегрируясь в современные секторы экономики и воспроизводя на локальном уровне традиционные модели властных отношений, основную роль в которых по-прежнему играют не чиновники или партийные деятели, а племенные шейхи, религиозные авторитеты и т.п.
Понятно, что последние два государства в сущности своей составляют оппозицию первым трем, и именно их лояльность арабские режимы на протяжении долгого времени были вынуждены покупать социальными программами, относительной автономией интеллектуальной сферы и т.д. При этом бытующее мнение о деполитизированности традиционного общества или креативного класса кажется сегодня неверным. Возможно, точнее было бы говорить о стратегиях «вненаходимости», описанных А. Юрчаком для общества позднего социализма. Такие стратегии предполагают принятие политического мира на формальном уровне, даже активную вовлеченность в этот мир при одновременном его неприятии на уровне сущностном. Так, например, племенные шейхи в Алжире или Ливии могли занимать определенные государственные должности, выступая агентами власти на местах, однако в реальности источником их легитимности служили именно традиционные связи, а не государственное назначение. Точно так же и интеллектуалы, формально принимая существующий режим, вроде бы отказываясь от борьбы с ним, в реальности переносили свою активность на сферу гражданских отношений (например, в рамках правозащитных организаций), тем самым способствуя его ослаблению и делегитимизации.
Арабское пробуждение и кризис государственности
Гибридный характер идеологий нациестроительства, дефицит легитимности государств, фрагментированность обществ, дисбалансы институционального развития, порожденная этим «множественность государств» и связанные со всем этим структурные противоречия ярко проявились в период арабского пробуждения, обозначившего глубокий кризис государственности в странах региона.
Если анализировать события, начавшиеся в 2010 году, через призму проблем государственности, то они допускают несколько взаимодополняющих интерпретаций.
Во-первых, их можно рассматривать через призму теорий демократического транзита, считая, что основным стремлением протестовавших в 2011 году было именно расширение политического участия, а сами протестовавшие представляли главным образом описанный креативный класс со всеми его особенностями, его вестернизированностью и приверженностью (условной) к либеральным ценностям.
При таком подходе демократизация является не инструментом социально-экономического прогресса (что, вообще говоря, сомнительно, учитывая позитивный азиатский и негативный африканский опыты), а самоцелью развития гражданского общества и инструментом гармонизации его отношений с властью.
Во-вторых, их можно рассматривать как результат исчерпанности социального контракта между обществом и государством. Невыполнение последним его социально-экономических обязательств, приведшее к росту безработицы и коррупции, в совокупности с завышенными ожиданиями общества потребления, рассматривавшего социальную политику властей не как благодеяние, но как одно из своих неотъемлемых прав, вывело на площади как креативный класс, так и традиционные слои общества, ставшие ударной силой революций.
Две эти интерпретации более или менее соответствуют двум из трех основных подходов к анализу феномена арабского пробуждения, распространенных в российском экспертном сообществе, — политико-психологическому, вписанному когда в либеральную, а когда в структуралистскую или постмодернистскую парадигму, и социально-экономическому, наследующему марксистские традиции. Третий подход, подчеркивающий роль внешнего фактора, ведет к рассмотрению обществ региона как объектов, а не субъектов политической активности, и потому нас не интересует.
В-третьих, эти события можно рассматривать через призму теорий неоколониализма — точка зрения, в российском академическом сообществе не пользующаяся какой-либо популярностью. Свергнутые режимы в таком случае оказываются внутренними колонизаторами, узурпировавшими власть и публичную сферу как таковую.
Первая и третья интерпретации позволяют выявить две ключевые проблемы всего последующего развития этих стран: демократия и институты, с одной стороны, и суверенитет — с другой. В то же время незавершенность процесса не позволяет пока что говорить о проблеме социально-экономической программы развития стран региона и о возможности обновления социального контракта. Две же указанные проблемы, как видно, прямо соотносятся со структурными слабостями модели арабской государственности: демократия и институты — с «множественностью государств»; а суверенитет — с дефицитом легитимности и незавершенностью нациестроительства.
Демократия и институты
Вне зависимости от того, какое представление протестовавшие в 2010-2011 годах имели о демократии, очевидным итогом протестов стало расширение политического участия во всех без исключения странах региона, по крайней мере, на первом этапе (201 1-2013 годы). И в этом отношении эти события можно рассматривать как естественное развитие процессов демократизации, начавшихся в 1970-е годы, и как попытку положить конец «арабскому эксепционализму». Вместе с тем столь же очевидно, что об ограниченной демократизации в собственном смысле слова речь здесь может идти только относительно Туниса, Марокко, отчасти Иордании, Египта и Алжира. Причем в последних двух случаях это утверждение спорно, поскольку, по мнению многих авторов, «июльская революция» 2013 года фактически вернула Египет к авторитаризму (правда, обновленному, с более широким, нежели прежде, политическим участием), а алжирские политические реформы имели скорее декоративный характер. Высочайший уровень абсентеизма на парламентских выборах 2012 года и президентских 2014 года в совокупности с 84%, набранными на последних тяжело больным А. Бутефликой, вряд ли свидетельствуют о демократизации. Неудачей в конечном счете окончился и национальный диалог в Бахрейне, свернутый к 2015 году (хотя ситуация может и измениться).
Вместе с тем в таких странах, как Ливия, Сирия и Йемен, расширение политического пространства обернулось полномасштабными гражданскими войнами и в случае Ливии, да и Йемена, — фактическим разрушением государственности.
В конечном счете можно видеть, что наиболее успешным процесс расширения политического участия оказался в тех странах, где и госинституты, и институты гражданского общества были одинаково хорошо развиты — прежде всего в Тунисе и Марокко. Причем если во втором двигателем демократизации выступил сам режим (как он пытался выступить и в Бахрейне, предложив программу реформ), то в Тунисе ключевую роль сыграло гражданское общество. В тех государствах, где гражданское общество было слабо по сравнению с институтами политической власти, последняя сумела быстро перехватить инициативу, затормозив процесс или обернув его вспять. Это относится к Египту, Алжиру, а также большинству монархий Залива, где вызов со стороны общества был довольно слабым. Характерно, что характер госинститутов — современные они или традиционные монархические — играл второстепенную роль, хотя монархии по природе своей и пользуются большей легитимностью, чем республики. Наконец, те страны, в которых институциональное развитие вообще было слабым, оказались близки к уничтожению государственности. Прежде всего это относится к Ливии, но также до некоторой степени и к Йемену, Ираку и Сирии.
В последних двух случаях симбиоз между институтами государственной власти и определенными этноконфессиональными группами (алавиты в Сирии, курды в Иракском Курдистане, шииты в Багдаде, а также сунниты в центральном Ираке, ставшие основой для ИГ) придавал борьбе за сохранение (в Сирии) или ревизии (в Ираке) государственности экзистенциальный характер. Кстати говоря, подобным образом могла бы сложиться ситуация и в Бахрейне, если бы конфликт между властью и оппозицией не был купирован (и если бы Бахрейн не был островом, что делало внешнее влияние более контролируемым). Вместе с тем в Ливии и Йемене, где основу системы политических отношений составлял постоянно менявшийся баланс между племенными, региональными, конфессиональными (в Йемене) и другими группами, государственность оказалась провальной.
Расширение политического участия, вне зависимости от того, происходило ли оно в институциональных рамках, как в Египте (в основном), Тунисе или Марокко, или же вне их — как в Ливии, в любом случае означало вовлечение в политику традиционных слоев общества, и соответственно традиционализацию политических отношений.
В тех случаях, когда этот процесс идет по «мягкому» сценарию — без разрушения институтов, — в перспективе он должен обернуться гармонизацией социально-политических отношений и повышением эффективности государства. Проще говоря, должна быть преодолена ситуация «множественности государств» — вместо пяти государств в одном в итоге мы должны получить единое государство — более традиционное в ценностном отношении, но более демократическое в институциональном.
Чисто теоретически повышение эффективности институтов в дальнейшем должно стать залогом социальной модернизации, либерализации общественных отношений и в конечном итоге снижения роли традиционализма.
Пожалуй, наиболее интересный пример в этом отношении сегодня демонстрирует Тунис, где становление институтов свободных выборов, реальной многопартийности, свободной прессы и т.д. создало условия для политического вовлечения гражданского общества. В результате многие социальные проблемы, ранее табуированные, оказались в центре общественных дискуссий — расизм, гендерное неравенство, права ЛГБТ, ответственность государства перед социально незащищенными слоями и т.д.
Однако такая активизация общественной жизни не помешала традиционализации политических отношений, в особенности на локальном уровне, где спустя десятилетия люди вновь вспомнили о межплеменных распрях, актуализировались локальные идентичности (в частности, чрезвычайно популярным стало требование возвращения доходов от экспорта природных ресурсов в местные региональные бюджеты), усилилась повседневная религиозность.
В тех же случаях, когда политический процесс развивается по жесткому сценарию, как в Ливии, Сирии или Йемене, расширение политического участия оборачивается разрушением или по меньшей мере деградацией государственности, в результате чего происходит полная традиционализация политической сферы. В зависимости от конкретной ситуации она может оборачиваться ростом трайбализма (как в Ливии), этноконфес- сионализма (как в Сирии) или же того и другого вместе (как в Йемене и Ираке). Политическая реальность этих стран находится в стадии полураспада, и даже в случае какого-либо прогресса в мирном урегулировании она будет переформатирована, причем традиционный элемент будет играть в ней большую роль, нежели раньше.
Суверенитет без суверенов
Если рассматривать трансформацию региона через призму концепций неоколониализма, то на первое место выступает проблема суверенитета.
С точки зрения сторонников такого подхода, получение независимости арабскими странами не привело к обретению ими полного суверенитета. Так или иначе, на протяжении всего XX века эти государства если и не были полностью лишены самостоятельности, то все же в значительной степени оставались объектами действий крупных внерегиональных держав — прежде всего США и СССР, в меньшей степени государств Европы, от которых они зависели в экономическом, военно-политическом и культурном отношениях, а также — в случае Палестины — Израиля, оккупировавшего палестинские территории в 1967 году.
Кроме того, как и в других регионах мира, в последние годы происходило размывание суверенитета государств региона в результате их включенности в процессы глобализации и регионализации, в том числе в региональные интеграционные проекты, наиболее значимым из которых был и остается Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Все это позволяет говорить о преимущественно внешнем характере суверенитета арабских стран в это время.
Впрочем, дело здесь даже не столько в особенностях положения арабских государств в мировой политической системе, сколько во внутриполитических системах самих этих государств, позволивших их критикам говорить об отчуждении режимов от народов и об узурпации ими суверенитета. Модернизированные правящие арабские режимы, выполнявшие по сути дела функцию прогрессоров, в таком случае предстают неоколонизаторами, проводившими антинародную политику, носителями чуждых обществу ценностей и моделей поведения, и действовавшими в интересах сил, находившихся за пределами государства (западного истеблишмента, к которому они, по сути, и принадлежали).
Вне зависимости от того, насколько справедливы были эти обвинения, мысль о том, что свергнутые режимы носили антинародный характер, были излишне вестернизированы, оторваны от корней и т.д., разделялась многими протестующими и значительной частью политических сил, претендовавших на власть в постреволюционный период (в частности, исламистов и ультралевых).
Расширение политического участия и последовавшая за ним традиционализация системы политических отношений в таком случае должны рассматриваться как процессы укрепления национального суверенитета, его перехода от относительно изолированной группы к более широким слоям населения. На практике такой переход означал частичное или полное распыление суверенитета или - в крайних случаях - ситуацию суверенитета без суверена.
В самом деле, если понимать суверенитет в духе К. Шмитта, как способность действовать в чрезвычайных обстоятельствах, то революция и «внутренняя деколонизация» привели к уничтожению реального носителя суверенитета — власть вернулась к своему источнику (народу), но обрела слишком много представителей. Если в случае с Тунисом это обернулось просто слабостью правительств и их неспособностью проводить непопулярные меры, то в случае Ливии это означало появление огромного количества центров силы (милиции, «Рассвет Ливии» в Триполи, гражданское правительство в Тобруке и генерал X. Хафтар, ИГ и др.).
Особый случай представляет здесь Египет, где «июльская революция» 2013 года вернула ситуацию к истокам, позволив преодолеть поляризацию общества (или по меньшей мере минимизировать ее политический эффект). Декларируемые экономические успехи режима А. ас-Сиси, необходимость противостояния вполне реальным угрозам безопасности и стремление к повышению легитимности и инклюзивности режима посредством электоральных процедур позволили ему консолидировать общество, став единственным реальным носителем суверенитета.
Впрочем, очевидная экономическая зависимость нового египетского режима от Эр-Рияда позволяет вновь говорить о наличии элемента внешнего суверенитета.
Вообще, усиление роли региональных акторов в мировой политике привело к тому, что такие страны, как Турция, Иран и Саудовская Аравия (а также в меньшей степени Катар и ОАЭ), попытались стать бенефециариями описанного процесса распыления суверенитетов, как посредством косвенного участия во внутриполитических процессах (через поддержку лояльных им сил — салафитских в случае с Саудовской Аравией, шиитских — в случае с Ираном, «Братьев-мусульман» в случае с Катаром и т.д.), так и посредством прямого вооруженного присутствия (Бахрейн, Йемен, Сирия).
Между тем кризис институтов и распыление суверенитета имели еще один неожиданный итог. Под сомнение оказалась поставлена территориальная целостность государств региона и их территориально-административное устройство, причем это касается не только таких стран, как Ливия, Сирия, Ирак или Йемен, о невозможности сохранить единство которых часто говорится прямо, но и таких вполне на первый взгляд благополучных государств, как Египет, Тунис, Саудовская Аравия и др.
В случаях Йемена, Сирии и Ливии регулярно озвучивающаяся идея федерализации скрывает под собой попытки местных властей и западных экспертов придумать модель сохранения государственности в ситуации ослабления или распада институтов (или — в случае Ливии — уничтожения системы личной власти, маскировавшей отсутствие институтов). Иракский опыт показал, что подобная стратегия имеет вполне определенные пределы — единство рыхлой федерации зависит от нахождения консенсуса между региональными элитами относительно разделения доступа к ресурсам страны, и, разумеется, от интересов третьих стран. В случае нарушения межрегионального баланса или изменения международной обстановки система оказывается чрезвычайно уязвимой. Однако в других случаях (Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Египет и др.) речь обыкновенно идет не о федерализации как таковой, но о децентрализации (ал-лямар- казийя) или других формах имплементации элементов федерализма в систему управления странами. При том, что формально децентрализация во всех этих странах является официальной государственной политикой, направленной на стимулирование развития локальных сообществ, в реальности она всегда выполняет разную роль.
В Ливане речь фактически идет о скрытой федерализации, направленной на сбалансирование интересов локализованных этноконфессиональных групп. Ливанский опыт в значительной степени был заимствован американцами при выстраивании новой иракской государственности.
В Алжире и особенно Марокко она служит средством авто- номизации отдельных областей страны — контролируемой Рабатом части Западной Сахары в Марокко и Кабилии в Алжире. При этом в обеих странах сама постановка вопроса о регионализации или федерализации представляется невозможной (в особенности в Алжире, где это рассматривается через призму берберского сепаратизма).
В Тунисе же вопрос о «дефаворизованных» регионах был поставлен на повестку дня революцией 2011 года и рассматривался в контексте обеспечения доступа элит этих регионов к власти и финансовым ресурсам страны.
Очевидно, что во всех случаях без исключения федералистские тенденции могут рассматриваться двумя прямо противоположными образами. С одной стороны, как стремление усовершенствовать политическую систему, создать более тонкие механизмы управления и тем самым повысить инклюзивность политической власти. Это особенно ярко видно в традиционно суперцентрализованном Египте, в новой конституции которого шесть статей посвящено проблемам децентрализации, полномочиям местных советов и т.п. (в конституции 1971 года таких статей было всего две). Укрепляя выборность местных властей и расширяя полномочия местных советов в административной и финансовой сфере, правительство не только вовлекает регионы в управленческие процессы, но и — по крайней мере — теоретически, стимулирует развитие гражданского общества и демократии в стране.
С другой же стороны, федералистские начинания могут рассматриваться как попытка центральной власти сохранить единство страны, найдя консенсус с региональными (зачастую иноэтническими или иноконфессиональными) элитами. В случае Ирака это выражено особенно четко.
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать:
- во-первых, наблюдаемый сегодня кризис государственности в арабских странах предопределен фундаментальными противоречиями ее модели: незавершенностью нациестроительства, дефицитом легитимности государств, фрагментированностью общества и дисбалансами институционального развития;
- во-вторых, наиболее значимыми проявлениями этого кризиса являются деградация институтов, ретрадиционализация политического пространства, распыление суверенитета, ревизия границ и административно-территориального устройства;
- в-третьих, фундаментальная слабость модели поможет привести и к другим проявлениям кризисности даже в тех странах, которые пока что кажутся стабильными.
ИГ — альтернативная государственность?
В последний год тема альтернативной модели государственности для Ближневосточного региона стала чрезвычайно популярной. При том, что сами по себе идеи разнообразных альтернативных проектов на протяжении XX века появлялись довольно часто (в связи с созданием Палестинского государства, курдской проблемой, третьей мировой теорией М. Каддафи и др.), все же они занимали обычно маргинальное положение и почти никогда не доходили до воплощения в жизнь (вспомним идею демократического конфедерализма А. Оджалана). Однако стремительное усиление «Исламского государства», его экзотизм, кажется, создают впечатление внезапного появления реальной альтернативы.
Образовавшееся в 2006 году в результате слияния одиннадцати отпочковавшихся от иракской «Аль-Каиды» ИГ до 2013 года было малоизвестно — численный состав организации насчитывал в первые годы всего несколько тысяч человек17, в основном бывших солдат и офицеров из армии Саддама Хусейна. Деятельность организации в то время была направлена против американцев и нового руководства страны, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из политического пространства баасистов и всю старую элиту.
Радикальная трансформация ординарной джихадистской группировки была связана, во-первых, с разгоранием сирийского конфликта, дестабилизировавшего обстановку в Ираке, а во-вторых, с приходом к власти в ИГ Абу Бакра аль-Багдади весной 2011 года, взявшего курс на самофинансирование организации посредством грабежей, экспроприации имущества «неверных», рэкета, контрабанды и т.д.
Широкую известность деятельность ИГ приобрела летом 2014 года, когда бойцы организации захватили Мосул и начали активное наступление в Ираке и Сирии.
На сегодняшний день ИГ контролирует территорию в Сирии и Ираке, сравнимую по площади с Великобританией и с населением до 8 миллионов человек. В рядах ИГ сражается несколько десятков тысяч человек (по некоторым источникам — 80-100 тысяч) из самых разных стран мира, в том числе более 1700 человек из России (по неофициальным данным — значительно больше).
Понятно, что вопрос о характере ИГ до сих пор остается открытым, однако некоторые предпосылки для рассмотрения его именно в качестве государства, а не просто как нового издания джихадистских организаций, существуют, и по этому поводу сегодня уже сказано и написано немало. В контексте настоящего текста имеет смысл задаться только двумя вопросами: 1) что собой представляет проект, предлагаемый ИГ (если он есть), и 2) может ли ИГ решить проблему нациестроительства, преодолеть фрагментированность социумов и гармонизировать институциональное развитие?
Впрочем, даже если оно не сможет решить этих проблем, однако окажется успешным хотя бы в преодолении видимых проявлений кризиса государственности, то его уже можно будет определить как временно успешный проект, несмотря на все его варварство и жестокость.
Проект ИГ
Выдвигая собственный проект государствостроительства, ИГ продолжает салафитскую традицию призыва мусульманской общины к возвращению к временам праведных халифов и пророка Мухаммада. При том, что эта общая салафитская идея всегда пользовалась определенной популярностью в арабо-мусульманском мире, различные мыслители и религиозно-политические деятели интерпретировали ее совершенно по-разному.
В отличие от «Братьев-мусульман», тунисской «Ан-Нахды», ХАМАСа и других исламистских организаций, пытающихся в своей идеологии совместить исламские ценности с идеями национализма и принципами демократии, ИГ, как и породившая его «Аль-Каида», занимает принципиально антимодернистские и антизападные позиции. Соответственно, анализ проекта, выдвигаемого ИГ, предполагает обращение к модели раннемусульманской государственности как таковой и выделение основных ее элементов.
Проблема здесь состоит в том, что государственность в применении к арабо-мусульманской политической истории и культуре может пониматься двояко.
С одной стороны, речь может идти о реальной государственности, существовавшей в регионе в доколониальный период.
Такая «реальная» государственность в арабо-мусульманском мире имела двоякое происхождение — с одной стороны, она была порождена религиозным призывом пророка Мухаммада, с другой — арабо-мусульманскими завоеваниями VII-VIII веков и необходимостью установления контроля над завоеванными территориями и организации управления. Амбивалентность происхождения сказывалась и на структуре арабо-мусульманского государства, и на источниках его легитимности, и на его политической идентичности. С одной стороны, это было исламское государство для мусульман, основные институты которого были установлены пророком Мухаммадом и праведными халифами, власть халифа имела религиозное обоснование, а немусульманское население (в основном иудеи и христиане), считаясь «покровительствуемым», обладало собственной юрисдикцией и облагалось особыми налогами. С другой стороны, это было этнократическое государство - при Омейядах - арабское, при Аббасидах арабо-персидское и арабо-тюркское и т.д. Его правители активно использовали историческую мифологию для обоснования своего права на престол, опирались на трайбалистские и этнические группы в осуществлении власти и т.д.
Помимо сочетания религиозно-идеологического и этно- племенного элементов для реальной арабо-мусульманской государственности было характерно активное заимствование и преобразование практик управления покоренных и соседних народов (прежде всего Византии и Ирана), их переосмысление, постепенное усложнение политической архитектуры.
Наконец, эта реальная государственность отличалась, в об- щем-то, светским характером институтов (насколько о них можно говорить) и методов управления.
Последний тезис, конечно, не означает секулярности государства, однако он означает эмансипацию реальной политической власти от ее религиозных истоков. Примерно с X века (со времен Бувайхидов) аббасидский халиф сохранил за собой исключительную функцию легитимизации власти реальных правителей — сначала бувайхидских умара' ал-умара', а затем сельджукских султанов.
Вместе с тем речь может идти и о концепции исламской государственности, к которой, собственно, и обращается ИГ.
Развивавшаяся в трудах мусульманских правоведов, эта концепция, в основной своей части, не была направлена на описание существовавшей политической реальности и из этой реальности не проистекала. Для создававших ее мыслителей дело заключалось не в том, чтобы научить правителя править лучше (для того существовал жанр «княжеских зерцал»), и не в том, чтобы объяснить феномен власти, которым интересовались философы, а в том, чтобы описать, каким должно быть праведное государство, исходя из священных текстов ислама. Не случайно ключевой труд, посвященный исламской государственности, — «Ал-ахкам ас-султанийа» («Властные установления») ал-Маварди был написан только в XI веке, когда никакого единого халифата уже не существовало.
Представляется, что сегодня можно выделить несколько основных элементов концепции исламской государственности, оказывающих наибольшее влияние на проект, выдвигаемый ИГ, и объясняющих его отличия от идеи национального государства — умма, имам, даула, а также бай'а и джихад.
Прежде всего ИГИЛ — это не национальное государство, потому что умма в ее средневековом понимании — это не нация. Как отмечает палестино-египетский мыслитель Тамим ал-Баргути (Tamim al-Bargouti), «физическое бытие индивидуумов называется уммой, если эти индивидуумы представляют себя коллективом и если представление это ведет к тому, что они делают что-то иначе, чем все остальные». Таким образом, в отличие от нации в ее «биологическом» понимании, умма не является природным феноменом. Однако она также не является и воображаемым сообществом, появившимся в результате социально-экономического развития общества, — в отличие от «социального» понимания нации. Предполагающая духовное или идейное родство умма не может быть определена ни территорией своего расселения, ни своей многочисленностью (пророк Ибрахим изначально сам по себе составлял умму), ни своей политической организацией. Если национальное чувство требует обретения государственности, то умма нуждается в политическом оформлении исключительно из практической надобности, однако отсутствие государства не ведет к ее деградации или исчезновению.
Однако умма, кроме того, — это община, следующая за своим имамом, функция которого принципиальным образом отличается от функции руководителя национального государства: «Имамат существует как замещение (ли-хилафат) пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», — писал в XI веке ал-Маварди.
Имам не является ни сувереном, ни законодателем, ни исполнителем, ни судьей. Он, скорее, координатор, призванный следить за исполнением признанных сообществом богословов и правоведов интерпретациями священных текстов, администратор, а также учитель и пример для мусульман, следующих за ним по пути веры и таким образом и формирующих умму. Именно поэтому отсутствие имама ведет к ослаблению и неполноте уммы.
В политическом отношении ал-Маварди выделяет десять основных обязанностей имама, и так или иначе этот перечень соответствует всей суннитской традиции. Большинство из них, хотя и требуют политических действий, имеют религиозное обоснование или назначение: обеспечение религиозной законности, применение установленных Аллахом наказаний для защиты прав верующих, защита Обители ислама (Дар ал-ислам), борьба с отказавшимися принять ислам, взимание налогов (по установленным шариатом нормам), назначение на посты верующих и законопослушных людей, собственноручное управление уммой и защита веры. Помимо них есть две чисто административные обязанности — обеспечение приграничных областей и благоразумное определение доходов и расходов казны; и одна — чисто религиозная: поддержание религии.
В суннитской традиции имам не может быть избран, однако он может получить власть либо по прямому указанию предшественника, либо по согласованному решению сообщества религиозных экспертов, а также захватить ее силой.
Хотя имам и является руководителем не государства — даула, а уммы, действует он все же в рамках первого.
Однако ИГ не является национальным государством еще и потому, что даула в его средневековом понимании — это все же не совсем государство. Даула есть мирская организация уммы, от нее получающая свою легитимность. В классический период истории ислама, к которому и обращен творческий дух ИГ, даула означала прежде всего династию, но никогда не территорию. Даула — образование изначально временное и довольно гибкое, оно нетерриториально, а суверенитет не является его характеристикой, потому что, принадлежа Аллаху, он делегируется Аллахом умме, и только от уммы он передается имаму, а от него — правителям более низкого ранга. В результате даула представляет собой некую политию, в принципе многоуровневую и способную организовываться по сетевому принципу. Так, например, халифат Аббасидов представлял собой даула, но точно также даула представляли собой и входившие в него царства Тулунидов, Тахиридов и др., а Волжская Булгария, не имевшая с ним практически никаких реальных связей, рассматривалась Багдадом как часть этого государства, поскольку именно абба- сидский халиф был источником ее легитимности.
В современном мире даула не узурпирована ИГ — в определенном смысле и контролируемые сегодня Хизбаллой южные районы Ливана, и контролируемые ХАМАС территории Палестины, и контролируемые кочевыми племенами внутренние пространства «большой» Сахары также представляют собой даула в средневековом понимании этого термина. Обладая значительной политической самостоятельностью, они, разумеется, ослабляют национальную государственность в регионе.
Чрезвычайно важным элементом государственности ИГ является бай'а — клятва на верность, дающаяся отдельными социальными группами и индивидуумами имаму. Именно посредством бай'а обеспечивается связь между уммой и имамом и его реальный суверенитет. Институт бай'а,кроме того, существует и в современных арабских монархиях, обеспечивая традиционную легитимность правителей.
Наконец, что касается джихада, то, согласно унаследованным от «Аль-Каиды» Двуречья представлениям, описанным в их известном документе «Наше кредо и наша программа» и выдержанным в радикальной салафитской традиции, он понимается как вооруженная борьба с людьми, отказавшимися принять ислам, является личной обязанностью каждого мусульманина и одним из столпов веры, и, соответственно, отказ от его ведения ведет к такфиру — обвинению в неверии.
Таким образом, предлагаемое ИГ политическое устройство должно быть лишено некоторых слабостей существующей модели государственности a priori. Так, теоретически (но не практически) у «Исламского государства» не может быть проблем с незавершенностью проекта нациестроительства, потому что оно отрицает саму идею нации. Не может у него быть и проблем с дефицитом легитимности и суверенитетом, потому что легитимность его — от Аллаха, а суверенитет распространяется на всю мусульманскую умму. Что же касается институционального развития, фрагментированности общества и всего остального, то это уже вопросы не религиозной теории, а политической практики.
Реализация модели
Стремясь установить твердый контроль над территориями, ИГ вынуждено обеспечивать лояльность местного населения и соответственно вести активную социальную деятельность (выплата зарплат, благотворительные акции, строительство объектов инфраструктуры, обеспечение правопорядка и т.д.). Тот факт, что ИГ приносит с собой пусть и очень жестокий, пусть и совершенно извращенный, но тем не менее понятный порядок, основывающийся на известных правилах, обеспечивает ему поддержку населения (выжившей его части), уставшего от безвластия и хаоса войны.
Социальная активность заставляет ИГ совершенствовать структуру и методы управления. Так, аль-Багдади был провозглашен халифом, у него есть два заместителя, ему подчиняется кабинет министров и правители двенадцати гуверноратов.
Активное участие в рядах ИГ выходцев из саддамовской элиты позволяет руководству организации использовать их управленческий опыт.
Вместе с тем в управленческой структуре значительное место занимают и религиозные элементы: Консультативный совет (шура), проверяющий решения руководства на их соответствие нормам шариата, а также шариатский суд и совет муфтиев.
Многие вполне современные институты государственной власти в ИГ получают религиозную интерпретацию — так, например, социальные службы ИГ управляются Департаментом мусульманских услуг и т.д.
В конечном счете, можно констатировать, что в процессе своего институционального оформления в качестве государства ИГ синтезирует элементы национального государства и исламской архаики, что придает ему неомодернистский характер.
Если в институциональном отношении такой синтез и позволяет выстроить некое подобие реальной государственности, то в других он создает новые противоречия.
Так, идея территориальной государственности (в Сирии и Ираке) естественным образом сочетается в ИГ с детерриториальностью даула, ведь многие джихадистские группировки по всему миру объявили себя подданными халифа аль-Багдади и филиалами ИГ И хотя характер отношений между сиро-иракским ИГ и его ответвлениями по всему миру не вполне ясны, они, тем не менее, могут быть описаны и в парадигме отношений умма-даула, и совершенно по-западному — как франчайзинг.
Двойственность территориальной идентичности ИГ ведет в итоге к расколу организации на прагматиков, ориентированных на укрепление политического образования на ограниченной территории, и романтиков, стремящихся к бесконечной экспансии. Впрочем, этот раскол вряд ли может рассматриваться как фактор ослабления ИГ, потому что у организации есть очевидная возможность экспорта романтиков в филиалы ИГ по всему миру.
Столь же причудливо сочетается архаика и модерн в решении проблемы нациестроительства. С одной стороны, исламский эгалитаризм, идея единства уммы заставляет ИГ способствовать преодолению этно-племенной гетерогенности общества на контролируемых им территориях (разумеется, после уничтожения всех неверных), с другой стороны, решение проблемы через конфессионализм создает новые линии раскола.
Все эти причудливые переплетения вполне на постмодернистский манер дополняются активной информационной деятельностью ИГ, направленной на распространение влияния организации в мире.
Таким образом, «Исламскому государству» сегодня удается пока что решать проблему с внешними проявлениями кризиса государственности — восстановить институты и обновить контракт между обществом и государством, утвердить свой суверенитет над ограниченной территорией и решить проблему границ. Вместе с тем очевидно и то, что ни одна из этих проблем не решена полностью, и не факт, что может быть решена в рамках выстраиваемой модели.
Так, созданные институты и экономический базис социального контракта при всей своей экзотичности могут быть решением на время «джихада» и постоянной экспансии, однако для поддержания жизнедеятельности нормального государства их придется пересматривать. И здесь, конечно, есть определенная ирония истории, потому что в этом отношении игиловцам придется повторить путь Омейядов и вообще раннеисламской государственности, создание которой именно как государственности, а не как завоевательной политии было связано как раз с прекращением экспансии во времена халифа Абд ал-Малика. В тот раз, как известно, неспособность перестроиться привела в конечном счете к Аббасидской революции и затем к дроблению Халифата.
Точно так же не вполне ясно сегодня практическое решение вопроса о суверенитете — бай'а все же является довольно слабым инструментом его укрепления для частично модернизированных обществ. Понятно, что на первый взгляд властям ИГ сегодня удается контролировать определенную (и довольно большую) территорию, однако насколько глубоко и прочно они ее контролируют, неизвестно. Тем более сомнительно утверждение о суверенитете, учитывая непризнанность государства со стороны мирового сообщества.
Наконец, что касается границ и территориально-административного устройства, то, конечно, сетевые структуры, франчайзинговые системы, внетерриториальность — все это звучит очень романтично. Однако на практике говорить об «Исламском государстве» в собственном смысле слова можно только на сиро-иракской территории, что же до остальных, то там речь идет только об определенном брендировании, под которым каждый раз скрывается уникальная ситуация. Так, например, в Ливии «Исламское государство» в сущности своей представляет удобную форму самопрезентации и консолидации ряда малых племен. Да и единство сиро-иракской зоны тоже вызывает множество сомнений, в том числе из-за иракского доминирования в руководящих структурах ИГ
Наконец, если смотреть на глубинные проблемы государственности, то с их решением у ИГ дело обстоит еще хуже.
Идея единой исламской нации, конечно, поэтична, однако она может быть привлекательной лишь для некоторого количества пассионариев, в основном из западной исламской псевдоуммы23, но она совершенно не учитывает существующих региональных идентичностей, которые в реальных социальных практиках обычно оказываются важнее конфессиональных. Кроме того, что касается собственно сиро-иракского населения, то оно вынуждено присоединиться к ИГ в силу ужасающих условий военного существования и просто отсутствия выбора. Точно так же и молодежь из многих арабских стран вступает в ИГ, руководствуясь не религиозными идеями как таковыми, а из-за разочарованности в собственных государствах. «Здесь нет справедливости, нет свободы, нет будущего» — такие слова можно услышать от молодых людей бедняцких районов Туниса, решивших присоединиться к ИГ, где все это, с их точки зрения, есть. Свобода и справедливость в этом дискурсе понимаются специфически — как отсутствие унижений со стороны государства, как неотчужденность от него.
Таким образом, этим молодым людям представляется, что ИГ дает возможность преодоления общественно-политической фраг- ментированности — его элиты не узурпируют власть, они аутентичны. Однако на практике эта возможность пока что достигается исключительно репрессиями и геноцидом социальных групп, а потребность в развитии, в укреплении суверенитета (если ИГ сохранится и при других «если») и институтов будет диктовать и укрепление репрессивного аппарата, оторванного от общества в еще большей мере, чем в других арабских странах. Так что и с преодолением фрагментированности, очевидно, возникнут проблемы.
Наконец, что касается институтов, то пока что на территории ИГ наблюдается создание институтов власти при полном вакууме институтов гражданских. Такая ситуация может сохраняться исключительно на время войны.
И тем не менее, несмотря на всю очевидную слабость ИГ как проекта государствостроительства, нельзя отрицать того факта, что для определенного числа жителей государств региона он имеет особую привлекательность. По всей видимости, привлекательность эта связана прежде всего не с конфессиональным характером государства как таковым и, конечно, не с жестокостью его политики, а именно с упомянутой выше кажущейся аутентичностью ИГ
Описанная в настоящем исследовании картина выглядит неутешительной: помимо глубокого системного кризиса национальной государственности в арабском мире мы наблюдаем возникновение некоего альтернативного проекта, который, покоясь на религиозных основаниях, не вписывается в современную мирополитическую систему, угрожает существующим государствам и вместе с тем неспособен решить ключевые проблемы местных обществ.
Может ли этот пессимистический тренд в развитии арабского мира быть преодолен? Вероятно, в длительной перспективе, да.
Помимо военно-политического решения проблемы ИГ (в том числе через предложение привлекательной альтернативы иракским суннитам) и реконструкции государственности в сироиракской зоне это потребует от международного сообщества, региональных игроков и самих государств принятия ряда мер. Очевидно, что они должны быть направлены на укрепление и повышение эффективности институтов государственной власти и гражданского общества, гармонизацию элементов традиции и модерна в ценностно-политическом пространстве стран, поэтапную децентрализацию власти при укреплении национального суверенитета, отказ от ревизии существующих границ и т.д.
Очевидна, кроме того, необходимость принятия этих мер не только (и не столько) в уже ослабленных государствах, где главной проблемой становится вообще реконструкция институтов, а в тех странах, которые остаются пока что стабильными и могут претендовать на региональное лидерство.
Опубликовано в "Россия в глобальной политике": http://www.globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v-arabskom-mire-18043
«Ящик Пандоры» федерализации на Ближнем Востоке
 Обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса региону, не перестающему удивлять мир? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма.
Обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса региону, не перестающему удивлять мир? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма.
Призрак федерализма бродит по Ближнему Востоку. На политическом горизонте появляется всё больше проектов федерализации, в которой их внешние и внутренние авторы видят возможность выбраться из клоаки всеобщей конфликтности, в которую втягивается всё больше стран и областей. Йемен, где число проектов подобного рода уже перевалило за десяток; Сирия, вокруг которой разворачивается энергичная борьба за новую конституцию, где не участвует только ленивый; Ирак, где курды недавно показали шаткость грани, отделяющей федерализм от сецессии; Ливия, где децентрализация представляется для многих единственным шансом прекратить разновластие и хаос. Наиболее смелые замыслы касаются Турции, Саудовской Аравии и даже Марокко. Одну страну – Судан – вообще расчленили, но и это не решило острейшие внутренние проблемы тех двух государств, которые были созданы на месте прежнего единого. Энтузиазм, с которым внешние акторы, в том числе те, кто плохо представляет себе, где находится та или страна, и составившие себе о ней представление из туристских справочников (хотя с возвращением туризма в регион, вероятно, придётся повременить), принялись чертить новые границы, позволяет заподозрить их в честолюбивом стремлении вкусить славы знаменитых апологетов колониализма англичанина Марка Сайкса и француза Франсуа Жоржа-Пико, чьи имена, навеки спарившись, вошли в историю. Увы, со знаком минус.
Сонм политологов давно вещает о смерти панарабского национализма. Да, разного рода юнионистские проекты на фоне всеобщей партикуляризации вроде бы сегодня не в моде, но как может исчезнуть национализм, который часто лишь меняет личину? Король умер, да здравствует король! Ведь именно арабский национализм, а вовсе не сладкая парочка – Сайкс-Пико, породил ту систему государств, которая до сих пор существовала на Ближнем Востоке, но недавно дала постоянно расширяющуюся трещину, не выдержав испытания глобализацией. И даже новое покушение на святое святых, предпринятое в этот раз чудаковатым лидером крупнейшей мировой державы, – на арабский характер Восточного Иерусалима – уже не так сильно, как можно было предполагать, консолидирует арабов, да и мусульман, в борьбе против страшной угрозы утраты контроля над святыней. Уверен, что национализм не только не сгинул, но готовится к возрождению, хотя и может принять новые формы. Более того, пока значительная часть местного социума будет видеть в разного рода объединительных проектах способ к избавлению от губительных для народов внутренних конфликтов, разъедающих их идентичность, эти проекты останутся непотопляемыми. Будем, однако, надеяться, что уходит в небытие извращённо-джихадистская версия исламистского объединительного проекта после ликвидации его территориальной базы в Сирии и Ираке. Что же касается другой радикальной версии панисламистского проекта – «братско-мусульманской», то слухи о её смерти могут оказаться преувеличенными.
Но обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса не перестающему удивлять мир региону или хотя бы тем находящимся в нём государствам, которые стали относить к числу провалившихся? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства любой страны, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма. Так или иначе, подобная перестройка должна тщательно готовиться, выверяться во всех деталях, опираться на квалифицированное экспертное знание. И – самое главное – она должна получить поддержку населения.
Статья опубликована в клубе "Валдай": http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/yashchik-pandory-federalizatsii/
Фото: Bilal Hussein/AP
Режим вольно трактует понятие "антитеррористическая операция"
 От саммита глав России, Турции и Ирана в Сочи никаких прорывных решений не ожидалось. На мой взгляд, эта встреча преследовала цель сверки часов и успокоение Москвой своих союзников.
От саммита глав России, Турции и Ирана в Сочи никаких прорывных решений не ожидалось. На мой взгляд, эта встреча преследовала цель сверки часов и успокоение Москвой своих союзников.
Не секрет, что Иран вполне официально высказывал недоумение по поводу того, зачем вообще нужен Конгресс национального диалога Сирии и какую цель он преследует. Но больше Тегеран беспокоило содержание тех договоренностей, которые были озвучены в ходе совместного заявления президентов России и США во Вьетнаме, опирающегося на конфиденциальный документ от 8 ноября в Аммане.
Что касается Турции, то ее в первую очередь беспокоит курдская проблема. С одной стороны, есть давно достигнутые договоренности о разграничении Идлиба. Турецкие военные находятся в самом Идлибе и все свои аванпосты фактически расположили вокруг курдского Африна. Турки реализуют стратегию сдерживания курдов в этом анклаве, и это для них — основная задача. Параллельно в рамках астанинского процесса они проводят переговоры с непримиримыми группами и, опираясь на оппозицию, проводят рейды против иностранных боевиков, связанных с "Аль-Каидой".
Кроме того, "большой тройке" необходимо было прояснить вопросы, связанные с политическим урегулированием. В декабре в Сочи планируется проведение Конгресса национального диалога народов Сирии, который пытаются вписать в Женевский процесс. Конгресс пройдет между двумя раундами переговоров в Швейцарии. Идея сама по себе спорная – лично я считаю ее несвоевременной. Понятно, что необходимо дать толчок Женевскому процессу и как можно быстрее конвертировать во что-то реальное Астанинские договоренности. Но мирное урегулирование сирийского кризиса, о котором все говорят, это довольно-таки абстрактное понятие, и все его видят по-разному.
Арабские страны и иностранные государства, выступающие против президента Сирии Башара Асада и действующего режима, настаивают на формировании переходного правительства и продолжают спорить, какое место должен занимать Асад на этот период. В любом случае, они выступают за проведение кардинального реформирования существующего сирийского режима.
Но каким этот процесс видят Россия, Иран и Дамаск? Сейчас, несмотря на обещание проведения всех этих реформ в Сирии, по сути идет манипулирование ситуацией. Режим вольно трактует понятие "антитеррористическая операция" и проводит операции в Восточной Гуте против тех групп, которые подписали соглашение о режиме прекращения огня только с Россией в Каире и Женеве, при этом Москва не особо препятствует этому. На этом фоне цель предстоящего Конгресса — уровнять в правах реальную оппозицию и многочисленных марионеток, созданных сирийским режимом.
И после того. как эти силы будут уравнены в правах и голосах, можно проводить линию – да, все силы имеют право на существование, но они должны следовать той линии, которую диктует Асад. По факту, происходит легитимация существующего режима, а режим и оппозиция заведомо ставятся в неравные условия на переговорах.
При конвертировании этой схемы в какое-то переходное правительство уже сейчас понятно, кому будут принадлежать ведущие позиции. Сейчас Москва может обещать всем, что действительно могут быть проведены реформы, и они действительно могут быть проведены, но по тому сценарию, который расписан выше. То есть формально – это реформы, по факту – мало что изменится. И главное тут то, что это, в принципе, опасный сценарий, так как существующий сирийский режим, он, на самом деле, давно уже отжил свое. И тут, конечно же, необходимы реальные реформы, необходимо формировать правительство, в котором будут присутствовать различные национальности и оппозиция, в которой есть опытные офицеры и политики.
Москва может апеллировать тем, что может образоваться вакуум власти, который тут же будут заполнять радикалы и прочие. Но мероприятия, способствующие дальнейшему поддержанию режима — это уже сам по себе фактор для возникновения радикализма.
Здесь много вопросов, и по сути, пока еще не ясна позиция игроков саммита, прошедшего накануне в Сочи. Формально, они могут пока действовать в русле урегулирования, но будет ли оно действовать реально или декоративно, мы узнаем в дальнейшем, но явно не в ближайшие месяцы.
Статья опубликована в издании Спутник: https://ru.sputnik.az/columnists/20171124/412906612/turcija-rossija-iran-sirija-krizis-asad-putin-rouhani-jerdogan-peregovory.html
Фото: AFP / Omar Haj Kadour
Сирийско-сирийское примирение: между Астаной и Женевой
 Время покажет, возможен ли между США и Россией широкий диалог о политическом будущем Сирии после ДАИШ и о том, как подвести самих сирийцев к действительному национальному примирению на базе разумных компромиссов. Формула «ни победителей – ни побеждённых» более всего соответствует арабским историческим традициям и менталитету.
Время покажет, возможен ли между США и Россией широкий диалог о политическом будущем Сирии после ДАИШ и о том, как подвести самих сирийцев к действительному национальному примирению на базе разумных компромиссов. Формула «ни победителей – ни побеждённых» более всего соответствует арабским историческим традициям и менталитету.
11 ноября в ходе саммита стран – членов АТЭС в Дананге была оглашена своего рода «ожидаемая неожиданность». Президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов согласовали совместное Заявление по Сирии.
Внутригосударственный конфликт в этой стране, раздираемой на части гражданской войной, терроризмом и внешним вмешательством, неизменно оставался горячей темой в международной и особенно в российско-американской повестке дня. Российские и американские интересы здесь одновременно и совпадают, и разнятся – в наибольшей степени. При этом сохраняется взаимное понимание того, что без нахождения точек соприкосновения между Россией и США развязать конфликтный узел, в которым каждый из множества вовлечённых игроков всегда может оказаться спойлером, не представляется возможным. Во многом благодаря их дипломатическим усилиям Советом Безопасности ООН был разработан и принят большой пласт международно-правовых документов, который образует солидный фундамент для будущего урегулирования.
При администрации Обамы были моменты, когда обе стороны подходили совсем близко к достижению договорённостей, но устойчивой координации или хотя бы работы на параллельных курсах добиться так и не удалось. При всех неудачах, обоюдных претензиях и разногласиях, порой взрывоопасных, Россия и США сохраняли каналы коммуникаций.
Российско-американское заявление на высшем уровне, принятое в Дананге, имеет особое значение по целому ряду причин. По какому пути пойдёт дальнейшее развитие событий предсказать трудно, но декларация такого рода имеет шансы стать отправной точкой к выстраиванию необходимого минимума согласованных шагов по Сирии, тем более в новых условиях. Если, конечно, Москва и Вашингтон будут способны умерить амбиции, порождённые успехами в борьбе с ДАИШ*, и хотя бы в сирийском случае подняться выше разделяющих их глобальных проблем ради того, чтобы помочь многострадальному сирийскому народу разорвать порочный круг насилия и гуманитарных катастроф.
Прежде всего совместное заявление президентов России и США – это первая после смены американской администрации совместная с Россией политическая акция, предпринятая к тому же на общем мрачном фоне двусторонних отношений. По прошествии года после победы на выборах ближневосточная стратегия президента Трампа (как, впрочем, и внешнеполитический курс в целом), по мнению большинства американских экспертов, всё ещё остаётся невнятной, отличается непоследовательностью и даже сумбурностью принимаемых решений зачастую в угоду тактическим соображениям или в качестве реакции на те или иные неверные шаги.
Президенты пришли к общему пониманию целого ряда принципиальных вопросов, исходя из реальной оценки изменившейся военно-политической обстановки в Сирии. В течение последних месяцев в результате военных действий против боевиков ДАИШ на востоке Сирии силы, поддерживаемые Россией и США, оказались на таком близком расстоянии друг от друга, что потребовалась активизация канала связи между военными обеих стран с целью снижения рисков непреднамеренных опасных инцидентов. Президенты договорились продолжать эти усилия по военной линии, в том числе в работе со своими партнёрами, ведущими борьбу с ДАИШ. Выйдут ли эти усилия за пределы военной плоскости, пока неясно, хотя Россия и США в случае принятия политических решений могли бы наладить взаимодействие в формировании местного самоуправления в районах, освобождённых от ДАИШ, на базе национального примирения снизу. Это позволило бы облегчить оказание гуманитарной помощи, возвращение беженцев и экономическую реконструкцию в целом.
Важное значение имеет подтверждение вывода о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, и окончательное политическое урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 в её полном объёме. То есть проведение конституционной реформы и свободных выборов под эгидой ООН при сохранении суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности и светского характера государства. Президенты призвали все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха.
Конечно, это только самые общие принципы реформирования, которые и раньше не вызывали серьёзных расхождений. Не будет преувеличением сказать, что резолюция Совета Безопасности ООН содержит своего рода «дорожную карту» переходного периода. Но все подводные камни кроются именно в её имплементации. Между самими сирийцами нет сколько-нибудь общей интерпретации ключевых положений резолюции, а высшей инстанции, как это было с имплементацией Дейтонских соглашений по бывшей Югославии, в сирийском случае не существует. Это касается, в том числе, таких практических вопросов государственного строительства на инклюзивной основе, как согласование последовательности шагов, определение порядка работы над принятием новой конституции и формированием органов исполнительной власти в центре и на местах, обеспечение безопасности на время всего политического транзита.
Вместе с тем сам факт, что российский и американский президенты сочли возможным сделать акцент именно на Женевском треке, можно рассматривать как определённый сигнал сирийским противоборствующим сторонам и региональным игрокам, имеющим свои максималистские интересы, не всегда совпадающие с глобальными интересами России и США.
Своевременность такого шага определяется ещё и тем, что повестка дня сирийско-сирийских переговоров в Астане под эгидой России, Ирана и Турции как стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий по мере их продолжения стала расширяться и заходить на политическое поле, отведённое резолюциями Совета Безопасности ООН для Женевы при посредничестве его специального представителя. Это вызвало смешанную реакцию в США, в ведущих европейских странах и в арабском мире, несмотря на неоднократные разъяснения российских официальных представителей того, что Астана призвана создать благоприятные условия «на земле» для активизации переговоров в Женеве.
С одной стороны, семь раундов переговоров в Астане позволили запустить четыре зоны деэскалации в центральных, северо-западных и южных районах Сирии, существенно снизить уровень насилия и создать условия для доступа гуманитарной помощи, что не могло не получить одобрения во всём мире. Соединённые Штаты, воспринимавшие вначале Астану, как и любой многосторонний механизм, где они не играют ведущей роли, с большой долей скепсиса, согласились направить своего наблюдателя. В то же время появились различного рода спекуляции в том смысле, что Россия и Иран на фоне военных успехов ведут дело к тому, чтобы «обойти» основополагающую резолюцию Совета Безопасности 2254 и навязать урегулирование при помощи силы. Триумфаторская атмосфера в этой связи в Дамаске только подтверждала эти опасения. Представители вооружённой оппозиции на переговорах в Астане, со своей стороны, высказывали претензии к делегации правительства Сирии по поводу нарушения режима прекращения боевых действий, невыполнением таких мер доверия, как освобождение политических заключённых, снятия блокады с ряда районов и обеспечения беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи.
Не способствовала снятию недоверия и идея о созыве Конгресса национального диалога, которое было воспринято сирийской оппозицией как «старое» предложение Дамаска в новом издании и его попытка девальвировать женевский формат, где стороны подошли к необходимости начать обсуждение субстантивных вопросов политического перехода в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Оппозиционные деятели высказывали опасения, что цель Конгресса растворить оппозицию среди большинства партий, движений и организаций, в том числе псевдооппозиционных, подконтрольных сирийскому режиму. По выражению участника переговоров в Астане Мухаммеда Аллуша, это была бы «встреча режима с режимом».
И, наконец, заслуживает особого внимания данная в заявлении совместная российско-американская оценка зон деэскалации в качестве временной меры в целях создания условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Это представляется важным в контексте получивших широкое распространение на Ближнем Востоке рассуждений о том, что Россия и США будто бы пришли к убеждению о невозможности достижения устойчивого урегулирования в обозримым будущем и поэтому создают «так называемые» зоны деэскалации как средство замораживания конфликта.
Ближайшее время покажет, смогут ли США и Россия, которые при всех разногласиях и взаимных подозрениях всё же действовали на параллельных курсах в борьбе с ДАИШ, выйти за эти пределы, возможен ли конструктивный, широкий диалог между ними о политическом будущем Сирии после ДАИШ и о том, как подвести самих сирийцев к действительному национальному примирению на базе разумных компромиссов. Формула «ни победителей – ни побеждённых» более всего соответствует арабским историческим традициям и менталитету.
До последнего времени администрация Трампа рассматривала «искоренение терроризма» в Сирии и Ираке в качестве своего главного приоритета. Американские дипломаты доверительно говорили о том, что США устали от «государствостроительства». Вместе с тем, обстановка в Сирии подошла к такой черте, когда необходимо дать ответ на вопрос: что дальше? Практика воссоздания средневекового халифата под лозунгами джихада можно считать низложена. Но с потерей территориальной субъектности сама эта идеология вряд ли исчезнет. Особенно среди суннитского большинства в Сирии и суннитского меньшинства в Ираке, которые добиваются таких реформ во властных структурах, которые обеспечили бы им достойное политическое представительство. Россия, как не раз заявлял президент Владимир Путин, считает, что в настоящее время созданы необходимые предпосылки для перехода к стадии политического урегулирования в Сирии. Партнёрство с Соединёнными Штатами способствовало бы продвижению этого процесса.
Астана между Каиром и Амманом
 Шестой раунд переговоров в Астане по Сирии в августе так и не состоялся. Встречу неоднократно анонсировали то в середине, то в конце месяца, но в итоге глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил о переносе «Астаны-6» на середину сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 28 августа: на встрече могут быть юридически закреплены договоренности по созданным трем зонам деэскалации (на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и Хомса), а также по формируемой четвертой – в районе Идлиба.
Шестой раунд переговоров в Астане по Сирии в августе так и не состоялся. Встречу неоднократно анонсировали то в середине, то в конце месяца, но в итоге глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил о переносе «Астаны-6» на середину сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 28 августа: на встрече могут быть юридически закреплены договоренности по созданным трем зонам деэскалации (на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и Хомса), а также по формируемой четвертой – в районе Идлиба.
Очевидно, перенос сроков напрямую связан с достижением конкретных договоренностей между гарантами режима прекращения огня и оппозицией. Закрепление четвертой зоны деэскалации упирается в необходимость проведения ограниченной операции по ослаблению коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), в которой в январе 2017 года растворилась «Джебхат ан-Нусра», или «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ). В то же время альтернативные переговорные площадки в Аммане и Каире заменили астанинский формат, обнулили прежние договоренности, намеченные в майском меморандуме «Астаны-4», а также расширили число участников перемирия.
Как работает «Амман»
Одним из главных публичных итогов встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Гамбурге 7 июля 2017 года стало соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Кунейтра, Сувейда и о создании в Аммане центра мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Не секрет, что до официального объявления эти договоренности долгое время прорабатывались российскими и американскими экспертами в Аммане, и, очевидно, они обновили условия функционирования обозначенной в Астане южной зоны деэскалации, которая не включала Сувейду, но распространялась на Дераа и Кунейтру.
Боевые действия на юге Сирии, несмотря на подписанный майский меморандум о зонах деэскалации, не прекращались. Причем проправительственные силы проводили операции не столько против ХТШ, сколько против групп Сирийской свободной армии (ССА) альянса «Южный фронт», которые опираются на поддержку иорданского центра военных операций MOC (англ. Military Operations Command). Они также были обвинены Дамаском в связях с радикалами (отделением запрещенного в РФ «Исламского государства» «Джейш Халид ибн аль-Валид» и ХТШ) и в срыве соглашений о прекращении огня. Такой, прямо скажем, пропагандистский трюк играет на руку сирийской «партии войны». Это и послужило причиной того, что 34 командира «Южного фронта» подписали заявление о бойкоте пятого раунда «Астаны».
По всей видимости, США и Россия признали невозможным функционирование обозначенной в Астане южной зоны деэскалации на прежних условиях и заключили новое соглашение. Москва добилась закрепления за Вашингтоном ответственности за действия оппозиции и включения его в новые договоренности, а Вашингтон, таким образом, обязал Москву оказывать влияние на Дамаск, Иран и радикальные шиитские группировки. В результате этого соглашения, по данным источников арабских СМИ, проиранские силы должны находиться на расстоянии не менее 40 км от границы с Иорданией и Израилем в то время, как в этой зоне развернута российская военная полиция.
«Сепаратный» Каир
В июне 2017 года пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что за режимом прекращения огня в окрестностях Дамаска будут наблюдать российские и иранские военные. Однако 22 июля в Каире Россия и представители оппозиционной фракции «Джейш аль-Ислам» без участия Дамаска и Ирана заключили соглашение по Восточной Гуте, а на въезде в ее кварталы начала дежурить военная полиция РФ. Представители оппозиции заявили «Аль-Арабия», что подписали соглашение только с Россией, а не с сирийским режимом.
Есть все основания полагать, что Дамаск и иранцы уже, в свою очередь, предприняли попытки обнулить египетские договоренности, заключенные вне Астаны. Усилив группировку в районе Джобар 42-й бригадой 4-й дивизии правительственной армии, ими, вероятно, ставилась цель вытеснить фракцию «Файлак ар-Рахман» вместе с боевиками ХТШ в Идлиб и тем самым ослабить боевой потенциал всей Восточной Гуты. В итоге все закончилось новым соглашением, которое в середине августа в Женеве подписали российская сторона и «Файлак ар-Рахман».
31 июля снова в Каире между российскими военными и оппозицией, в первую очередь в лице «Джейш ат-Таухид», были заключены договоренности о зоне деэскалации на севере сирийской провинции Хомс.
На сепаратность двух каирских соглашений указывают заявления членов оппозиционного сирийского движения «Эль-Гадд ас-Сурий» («Завтра Сирии»), которое выступало посредником на переговорах. Сначала о независимости договоренностей по Восточной Гуте от переговорного процесса в Астане заявил официальный представитель Монзер Акбик, затем лидер движения Ахмед аль-Джарба отметил, что документ по Хомсу «не относится ни к одному соглашению, достигнутому либо на региональном, либо на международном уровне».
Перенос схемы
Хотя переговоры на альтернативных площадках не выходят за рамки майского меморандума, они по своему содержанию носят надстроечный и сепаратный характер. С одной стороны, диалог США и России под видом «амманских консультаций» чреват недовольством того же Ирана: он опасается, что площадка в Иордании может заменить астанинский процесс.
С другой стороны, Тегеран также заключал сепаратные сделки с оппозицией, например, в марте 2017 года, которая касалась как эвакуации населения из шиитских анклавов Идлиба, так и выкупа членов правящей семьи Катара, похищенных в Ираке.
Но решение Москвы пойти на дополнительные договоренности и расширение переговорных площадок – без сомнения, грамотный поступок, который открывает возможности для соглашений и даже деконфликтизации других районов Сирии.
Идлиб преткновения
Внутренние преобразования в «Ахрар аш-Шам» и дрейф руководства фракции в сторону Сирийской свободной армии в конце 2016 года привели к самому масштабному ее расширению. С другой стороны – несмотря на параллельный выход из «Ахрар аш-Шам» групп, выступающих за сотрудничество с «ан-Нусрой», раскол на «жесткий» и «прагматичный» блоки внутри фракции сохранился. Это привело к тому, что во время июльского наступления ХТШ в Идлибе группы «Ахрар аш-Шам» легко сдали и границу с Турцией, и центр провинции.
В этих условиях достаточно тяжело сформировать зону деэскалации: костяк ХТШ, выступающий против любых переговоров и позиционирующий себя «настоящими защитниками суннитов» (во многом из-за этого «ан-Нусре» удалось укорениться среди революционного движения), будет пытаться сорвать договоренности. Тем не менее у гарантов перемирия есть шанс провести ограниченную операцию, которая бы отсекла ХТШ от турецкой границы и на этом фоне ослабила группировку. Ведь в ее составе есть исключительно сирийские группы, не разделяющие идеологию «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а примкнувшие к коалиции из-за ее боеспособности и до сих пор не верящие в реальность перемирия.
Статья опубликована в Независимой газете: http://www.ng.ru/dipkurer/2017-09-04/10_7065_astana.html
Фото: ТВЦ
Военная структура «Исламского государства»
 Статья Антона Мардасова и Кирилла Семенова
Статья Антона Мардасова и Кирилла Семенова
Несмотря на ожесточенное сопротивление, «Исламское государство» медленно, но верно теряет контроль над территориями в Сирии и Ираке. Не вызывает сомнений, что в перспективе анклавы в Ираке (Хавиджа, Тель-Афар, Аль-Каим) и Сирии (Ракка и города в провинции Дейр эз-Зор) будут освобождены от ИГ.
Как следствие, разрушится идея нового «халифата», а организация возвратится к «исходным условиям»[1] – на положение подпольного повстанческого движения. То есть, к своему некогда привычному состоянию, в котором руководство организации пребывало долгие годы до провозглашения «халифата». Но по сравнению с 2006–2008 годами организация стала в разы сильнее и превратилась в новый террористический транснациональный центр с большой агентурной сетью, активными и «спящими» ячейками и опытом создания административного управления и полноценных вооруженных сил, которые по боеспособности превосходили многие регулярные армии Ближнего Востока.
Исходя из перехваченной документации исламистов, лидеры ИГ начали готовиться к территориальным потерям в Ираке еще в 2015 году. В качестве превентивной меры для конспирации создавались параллельные органы командования, инициатива передавалась на места в пользу автономности действий отрядов. Но главное – в боевых действиях была избрана стратегия, которую можно охарактеризовать, как «чем хуже, тем лучше»: чем больше жертв среди мирного населения, чем острее этноконфессиональные противоречия, чем сложнее восстановить разрушенные города, тем лучше для джихадистов. Это ключевой фактор для жизнеспособности организации и для возможной реинкарнации «халифата» и его полноценных «вооруженных сил», которые понесли серьезные потери.
«Центральное командование» вооруженных сил «Исламского государства»
Вооруженные силы «Исламского государства» можно разделить на семь частей, или «родов войск»: пехота, снайперы, противовоздушная оборона, спецназ, артиллерийские силы, «армия невзгод» (аналог МЧС) и «армия халифата»[2]. Кроме того, военные силы ИГ можно разделить, согласно их подчинению, на части «Центрального командования» («Центком») и части «Командования вилайетов» (провинций, границы которых не совпадают с общепринятыми).
Основа сил «Центкома» (ЦК) – «армия халифата», «командования вилайетов» (КВ) – «регулярная армия», состоящая из соединений корпусного типа, размещенных в каждом из вилайетов. В них представлены шесть «родов войск», кроме «армии халифата», в отдельных соединениях которой могут быть также подразделения всех шести «родов войск». Указанная структура затрагивает только территории ИГ в Ираке и Сирии. В «дальних вилайетах» (в других странах) она зависит от возможностей местного командования. Скажем, в вилайете «аль-Харамейн» (Саудовская Аравия) – ИГ представлено в качестве исключительно подпольных террористических ячеек, которые не имеют четкой иерархии.
«Армия халифата» – основа ЦК – была развернута в три отдельных «армии» (jaysh): «Джейш аль-Халифа» (то есть непосредственно «армия халифата»), к которой добавились «Джейш аль-Дабик» и «Джейш аль-Усра». Первая действовала, прежде всего, в районе Мосула, вторая имела, по всей видимости, штаб-квартиру в Ракке, а третья являлась «ударным корпусом» в провинции Алеппо, но все три объединения могли быть переброшены на иные направления в зависимости от ситуации на фронтах. По некоторым данным, планировалось, что численность каждой из «армий» должна составлять 12 000 человек, но, скорее всего, это сильно завышенные оценки и все три объединения в совокупности составляли названную цифру, может, чуть больше.
В эти армии ЦК входили различные соединения для действий на всех подконтрольных ИГ территориях Ирака и Сирии. Такие военные части ИГ называют арабским словом «nukba», то есть «элитные». Эти силы могут свободно маневрировать и перебрасываться на угрожаемые направления или, наоборот, в те районы, где необходимо организовать наступления. Обычно они выступали в качестве подкреплений, решающего резерва или «ударного кулака» и действовали в тесном взаимодействии с силами «вилайетов».
Кроме того, до сих пор существуют особые подразделения, не входящие ни в одну из названных «армий» ЦК, например, «Батальоны Баттар»[3], укомплектованные преимущественно выходцами из стран Магриба. Главную роль в них играют ливийцы, многие из которых опытные боевики, прошедшие Афганистан и Боснию, участвовавшие в восстании против Каддафи и затем перебравшиеся в Сирию, где примкнули к ИГИЛ. В составе батальонов также есть граждане Бельгии арабского, прежде всего, североафриканского происхождения. Эти подразделения – самостоятельная военная структура, по сути, «лейб-гвардия», подчиненная непосредственно «халифу» – Абу Бакру аль-Багдади. Собственно, личную охрану лидера ИГ и других высокопоставленных лиц осуществляют бойцы этих батальонов. По некоторым данным, в основном – тунисские граждане и бывшие иракские специалисты, служившие в структурах безопасности партии БААС. Также эти подразделения в свое время формировали особые «ликвидационные команды», которые отвечали за убийства тех, кто отказывался дать присягу аль-Багдади. Кроме того, представители «Батальонов Баттар» участвовали в организации и возглавили филиал ИГ в Ливии со столицей в Сирте, который осенью 2016 года был отбит «Бригадами Мисурата».
Также самостоятельной структурой исламистского «Центкома», по некоторым данным, были батальоны спецназначения «Группы центрального командования», которыми руководил[4] гражданин Грузии Тархан Батирашвили, более известный как Абу Умар аш-Шишани. Эти подразделения в основном были укомплектованы русскоязычными представителями народов Кавказа и гражданами республик СНГ. После гибели аш-Шишани и больших потерь в личном составе, по некоторым данным, бойцы батальонов вошли в состав русскоязычной бригады снайперов «Аль-Фуркан», которая вместе с бригадой «Тарик ибн Зияд» действовала в Мосуле. Последняя была названа[5] в честь исламского полководца, покорившего Аль-Андалус, то есть королевство вестготов на Пиренейском полуострове. Название формирования указывает и на ее национальный состав, в которой воевали в основном франкоязычные жители арабского Магриба, выходцы из Алжира, Мавритании, Марокко, Туниса, многие из которых прибыли из Европы, где успели обзавестись гражданством ряда государств ЕС.
Еще можно выделить «Бригаду Нахаванд», которая комплектовалась представителями народов Индостана, Юго-Восточной Азии, Индонезии и которая в Мосуле специализировалась на засадах, пользуясь сетью подземных тоннелей. Среди соединений ЦК, действующих в Сирии, можно также упомянуть дивизии «Табук» и «Мута».
В состав сил ЦК включались и механизированные соединения, оснащенные бронетанковой техникой. Достоверно известно об одной такой военной части – 3-й механизированной бригаде, которая действовала в Ираке. Однако большие потери ИГ в бронетанковой технике во время битвы у Кобани (ноябрь 2014 – январь 2015) могут свидетельствовать о существовании еще одной такой бригады – сирийской.
«Командования вилайетов»
В ИГ у каждого назначенного главы провинции («вали») обязательно существовал заместитель по военным делам («военный эмир» провинции), которому подчинялись командиры «дивизий» этого вилайета. Количество таких соединений в каждой из провинций в Сирии и Ираке могло доходить до четырех. «Дивизия вилайета», в свою очередь, состояла из двух полков, каждый полк – из четырех рот, каждая рота – из трех взводов. Кроме того, в составе «дивизии» присутствовали артиллерийско-минометный дивизион, танковый батальон и средства ПВО[6]. Таким образом, численность подобного соединения вряд ли может превышать 1500–2000 бойцов.
Также следует упомянуть и так называемые локальные, или местные силы. Они были подчинены КВ, но являлись гарнизонами отдельных населенных пунктов. Поэтому их часто выделяли в качестве отдельного вида вооруженных формирований, наряду с силами ЦК и КВ согласно подчиненности.
Кроме того, ИГ предпринимало попытки создать «иррегулярные силы» путем привлечения к «службе» племена Ирака и Сирии. По некоторым данным, для этой цели было создано специальное министерство «Диван аль-Ашаер» («министерство племен»). Однако его работа оценивается весьма скромно: большинство племен ирако-сирийского пограничья отказались войти в военную структуру ИГ, поплатившись за это убийствами своих членов, как племя Шайтат в Сирии или Аль Бу Нимр в Ираке. Некоторые племена все-таки присоединялись к ИГ, но в основном из-за того, что были поставлены перед выбором: или «халифат», или ополчение «Хашд аш-Шааби», в котором, несмотря на все попытки введения ряда его формирований в состав армии накануне наступления на Мосул, главную роль играют радикальные шиитские группировки.
Оснащение военных формирований ИГ техникой и вооружением
Основным источником пополнения ИГ своего парка военной техники и арсеналов были и остаются военные трофеи. Так, в ходе захвата Мосула и последующего «блицкрига» ИГ в Ираке летом 2014 года были захвачены военные базы и склады с вооружениями иракской армии. Это позволило значительно увеличить мобильность соединений ИГ, оснастив их различными видами транспортных средств. В частности, среди захваченных в боях с иракской армией образцов ВВТ было до 2300 американских внедорожников HUMVEE[7]. Также в Ираке было захвачено несколько десятков танков советского образца Т-55 и Т-72, китайских Т-69, американских семейства М1, а также более 100 ББМ: американских БТР M1117 и M113, советских МТ-ЛБ и БМП-1 и украинских БТР-80УП и БТР-4 (четыре и две единицы соответственно). Однако эти оценки приблизительные и касаются машин без видимых повреждений, в действительности в строй могло войти значительно больше.
Увеличение оперативной мобильности соединений ИГ за счет военных трофеев в Ираке позволяло в сжатые сроки перебрасывать силы ЦК с иракского ТВД на сирийский и наоборот. Это также обусловило стремительное продвижение ИГ в Сирии, где исламисты во второй половине 2014 года смогли нанести серьезные поражения сирийской оппозиции, а также своему конкуренту по «джихадистскому спектру» – «Фронту ан-Нусра», отбив обширные территории, включая город Ракка, ставший затем неофициальной столицей «халифата».
В боях с формированиями сирийской оппозиции ИГ смогло пополнить и собственные военные арсеналы, особенно за счет блокированных в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор гарнизонов сирийских повстанцев, которые были вынуждены или сложить оружие, или перейти на сторону ИГ. До этого оппозиция захватила базу 17-й дивизии в Ракке, где оставалось достаточно боеприпасов и военной техники, которая затем попала к ИГ. Скажем, в ноябре 2014 года только на сирийском фронте ИГ достоверно располагала 117 танками (21 – Т-72, 15 – Т-62, 81 – Т-55) и несколькими 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Основой огневой мощи соединений ИГ в Сирии были батареи, оснащенные 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30 (зафиксировано как минимум 20 таких орудий, но в действительности – в разы больше), 130-мм пушками M-46 (минимум 34 единицы), а также РСЗО БМ-21 «Град» (минимум 11 единиц).
Основным противотанковым средством соединений ИГ, кроме имевшихся в большом количестве гранатометов, выступали ПТРК-ПТУР «Конкурс». Хотя на вооружении ИГ были отмечены и иные образцы ПТРК – «Малютка», «Фагот», «Корнет», «ХОТ», но, вероятно, к «Конкурсам» было больше боезапаса. При этом в Сирии и Ираке ПТУР стали применяться настолько массово, что нередко использовались не только для поражения автомобилей и скопления живой силы, но и для контрснайперской борьбы.
Джихадистские соединения ПВО располагали большим количеством 23-мм спаренных ЗУ-23-2 пушек и 14,5-мм КПВТ. В то же время они способны лишь ограниченно противостоять вертолетам, а имеющихся у ИГ ПЗРК советского («Стрела-2»), китайского (FN-6) и северокорейского (Hwaseong-Chong) производства явно недостаточно для эффективного противодействия авиации международной коалиции или ВКС РФ.
Подчеркнем, что в настоящий момент сложно оценить, какой военной техникой располагает ИГ, из-за ее массовых потерь в 2016 году. Активная деятельность авиации коалиции и ВКС РФ не оставляет механизированным и бронетанковым подразделениям ИГ шанса для маневров, так как они становятся легкой добычей ВВС. Поэтому часть бронетанковой техники, прежде всего БМП-1, находила широкое применение в качестве «самоходных мин», управляемых смертниками. В основном все оказавшиеся в руках ИГ БМП переоборудовались в подобные «живые мины», в то время как в качестве транспортных средств ИГ предпочитало использовать легкие джипы-«технички» и НUMVEE.
Комплектование
В Сирии и Ираке комплектование осуществлялось за счет как местных резервов, так и «переселенцев» из иных стран и регионов, количество которых после провозглашения «халифата» увеличилось. При этом военная служба являлась добровольной, но в последнее время на фоне территориальных потерь на всех фронтах отмечается принудительная мобилизация молодежи, хотя формально это делается якобы с их согласия.
После того как с одной стороны Турция и подконтрольные ей отряды оппозиции, а с другой – курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии» закрыли сирийско-турецкую границу и оттеснили от нее ИГ, поток иностранцев в организацию значительно сократился. Однако и в настоящее время остается открытым один коридор для перехода в ИГ. Этот путь начинается в Турции и идет далее через контролируемые повстанцами районы провинции Идлиб и Хама, после чего желающие попасть в «халифат» должны перейти еще и трассу М-5 Дамаск – Алеппо, которую контролируют силы, лояльные Асаду. Пропускная способность такого маршрута очень низкая – буквально десятки человек, что не идет ни в какое сравнение с тем периодом, когда каждый месяц сирийско-турецкую границу переходили до 500–1000 будущих боевиков ИГ. Многих из пытающихся пробраться в ИГ арестовывают службы безопасности оппозиционных группировок в Идлибе. Радикалы из структуры «Хайат Тахрир аш-Шам», в которой растворилась «ан-Нусра», также проводят рейды по выявлению ячеек ИГ на подконтрольных ей территориях в провинции Идлиб.
В настоящее время неизвестно, остались ли еще какие-либо лагеря подготовки новоприбывших боевиков ИГ из числа как местных жителей, так и переселенцев. Ранее на подобных объектах все желающие стать «воинами халифата» должны были пройти курс идеологической и боевой подготовки: для «ансаров» (тех, кто родом из Ирака и Сирии) подготовка длилась 30–50 дней, для «мухаджиров» (переселенцев из других стран) – в течение 90 дней.
Боевые действия
Для захвата территорий ИГ использовало не только силовые методы, но и «мягкую силу». Сначала в городах создавались своеобразные миссионерские структуры, которые под прикрытием курсов арабского языка и религиозных лекций проводили разведку территории, включая сбор компромата на влиятельных членов племен, старейшин, командиров ополченских структур и отрядов оппозиции. Классический пример – захват Ракки: весной 2013 года, после взятия города сирийской оппозицией, там сначала появился «просветительский центр», затем туда стали потихоньку просачиваться бойцы силовой поддержки, а осенью – уже назначенный ИГ эмир на встрече с местными старейшинами и представителями повстанцев потребовал сдать город.
Действия ИГ непосредственно в бою похожи на тактику повстанческих и террористических групп, разница только в высокой дисциплине и мотивированности бойцов, а также в некоторых приемах, которые хорошо отточены боевиками. В целом наступательные действия ИГ строились по следующей схеме: артподготовка – массированный огонь для прикрытия движения «шахид-мобилей» (цель которых – вскрыть оборону противника) – массированный огонь с основного направления для выдвижения штурмовых групп с флангов. При этом в боях, конечно же, применяются уловки вроде переодевания в форму противника. Например, в боях за Ракку группа исламистов, маскируясь под курдских бойцов YPG, неожиданно атаковала реальных курдов.
В оборонительной тактике упор делается на массированный снайперский огонь (в Ракке винтовки получили даже люди, которые работали в административных органах «халифата»), использование подземных коммуникаций, применение смертников и постоянные контратаки. При этом иностранцы, которые не могут просочиться под видом местных жителей, сбрив бороды, как правило, стоят до конца, а местные часто выполняют роль «второго эшелона». То есть устраивают диверсии в уже освобожденных районах города.
Формально бойцов ИГ на поле боя (в том числе при проведении диверсии или теракта) можно разделить на три типа, которые, в свою очередь, делятся на подтипы: это собственно «пехота» с легким стрелковым оружием, РПГ и ПТРК; «истишхади» – смертники для прорыва обороны противника и причинения ущерба его живой силе; «ингимаси» – «взрывающиеся» штурмовики, подготовленные бойцы для операций и действий на сложных направлениях, которые носят «пояса» смертников, но подрывают их только при необходимости. Скажем, в №11 журнала ИГ «Румия» комбинированные атаки в Тегеране описаны следующим образом: первая группа «истишхадиев» – подорвали себя у мавзолея Хомейни, вторая группа «ингимасиев» из трех человек атаковала здание парламента.
Таким образом, сильное оружие ИГ – это высокомотивированные бойцы, которые для обороны города нередко дают «присягу на смерть», составляющие мобильные группы. Как только ИГ переходило от «терзающей» тактики маневренных отрядов к операциям с привлечением сравнительно большого количества живой силы и техники, они быстро проваливались из-за массированных ударов авиации.
Статья опубликована в издании "Новый оборонный заказ. Стратегии": http://dfnc.ru/yandeks-novosti/voennaya-struktura-islamskogo-gosudarstva/
Фото: из открытых источников
[1] http://carnegie.ru/commentary/71349
[2] http://www.aymennjawad.org/2015/06/islamic-state-training-camps-and-military
[3] https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/02/16/tip-of-the-spear-meet-isis-special-operations-unit-katibat-al-battar/
[4] http://www.aymennjawad.org/2016/01/an-account-of-abu-bakr-al-baghdadi-islamic-state
[5] http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-iraq-foreign-fighters-return-europe-refusing-fight-sick-notes-a7567131.html ,
[6] http://www.ayn-almadina.com/details/The%20Military%20Structure%20of%20the%20%22%20Islamic%20State%20%22%20in%20%22Wilayat%20al-Khair%20%22%20%28Deir%20ez-Zour%20province%29%20%20%20%20/2998/ar
[7] http://www.naharnet.com/stories/en/180602-pm-says-iraq-lost-2-300-humvee-armored-vehicles-in-mosul