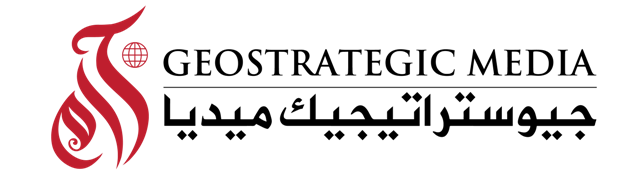Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
События последних лет — кризис на Украине, референдум о независимости Шотландии, рост сепаратистских настроений в других странах Европы, и прежде всего в Испании, — актуализировали дискуссию о путях развития и кризисе модели национального государства. Гражданские войны, охватившие Ближний Восток, разрушение государственности Ливии, отчасти — Ирака и Йемена, глубокий ее кризис в Сирии и в других странах, возникновение и быстрое усиление «Исламского государства» (ИГ) сделали ее особенно актуальной для арабского мира. Сам тезис о кризисе ближневосточной модели национального государства был выдвинут в известной статье В.В. Наумкина «Цивилизации и кризис наций-государств» http://www.globalaffairs.ru/number/Tcivilizatcii-i-krizis-natcii-gosudarstv-16393. В значительной степени инициированные этим текстом дискуссии ведутся сегодня, в основном, вокруг двух проблем. Во-первых, если согласиться с тем, что сейчас происходит разрушение системы Сайкс-Пико, то какая иная система может прийти ей на смену? И во-вторых, является ли ИГ прообразом альтернативной государственности для региона, не только угрожающей существующим режимам, но и предлагающей некий позитивный проект?
Ответы на эти вопросы требуют прежде всего анализа существующей в арабском мире модели (или моделей) государственности.
Национальное государство в арабском мире: к определению модели
Ставший уже общим местом в экспертной среде (и не только в ней) тезис о «конце Сайкс-Пико» в реальности означает нечто гораздо большее, чем констатацию упразднения границ, установленных европейскими державами. Речь, в сущности, идет о разрушении всей модели государственности, сформировавшейся в эпоху колониальной зависимости. При этом не имеет значения, в каком отношении модель эта появилась благодаря, а в какой — вопреки колониальным властям.
Действительно, основные современные институты государственной власти в таких странах, как Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Алжир, отчасти — Ливия, были созданы европейцами или под их давлением. Даже в Египте или Тунисе, где реформы начались в доколониальный период, западное присутствие оказало существенное воздействие на политическую архитектуру.
Однако вместе с тем колониальные власти не ставили себе задачей проведение быстрой модернизации социальной сферы и, напротив (особенно в британском варианте колониализма), были склонны использовать традиционные этноконфессиональ- ные или трайбалистские линии раскола для взращивания лояльных групп в местном обществе.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в получивших независимость позже других монархиях Залива, где британские власти непосредственно вмешивались в межплеменные отношения и в династическую борьбу. Однако роль своеобразных «агентов» Запада играла и христианская компрадорская буржуазия в Ливане, и суннитская элита в Ираке, а о необходимости поддержки межплеменных и межрасовых разногласий в Судане в британском парламенте говорилось прямо.
Такой подход, частично модернизировавший систему управления, но консервировавший традиционные идентичности, а вместе с ними и социальные противоречия, в значительной степени определил специфическое лицо арабской государственности и присущие ей внутренние противоречия.
Национально-освободительные движения, получившие мощный импульс к развитию после Первой мировой войны, также были продуктом модернизационного проекта и в идейном плане зависели от европейской общественно-политической мысли. Те из них, что сумели стать реальными акторами политической жизни соответствующих стран, не пытались противопоставить внедрявшейся западной государственности какую-то альтернативу, но, напротив, стремились к тому, чтобы обрести полноту этой государственности. В сущности, речь для них прежде всего шла об обретении равных с европейцами прав. Отсюда и восторг по поводу «14 пунктов В. Вильсона», и активные дискуссии в Алжире, Тунисе, Ливане о том, надо ли добиваться независимости, или, напротив, необходимо стремиться к полной интеграции в метрополии, или же настаивать на широкой автономии.
Все это подготовило почву для оформления национальной государственности на Арабском Востоке, в основном уже после Второй мировой войны. Реализация ее, однако, затруднялась двумя обстоятельствами.
Одно из них заключалась в том, что при наличии определенных инструментов государственного строительства, сама идея нациогенеза в регионе укоренена была слабо. Отчасти дело тут было в изначальном несоответствии европейского понятия «нация» (хоть в его «биологическом», хоть в «социальном» понимании) и арабского понятия «умма» [umma](см. далее), отчасти в том, что модернизационный проект в большинстве стран региона начал реализовываться уже после получения независимости.
Первым следствием такой ситуации, сложившейся в условиях интеграции провозгласивших свою независимость государств в мирополитическую систему (что диктовало, среди прочего, необходимость идейно-политической самоидентификации), стало формирование специфических гибридных идеологий нациестроительства.
Основными такими конкурирующими идеологиями стали: панарабизм (насеризм, баасизм, южнойеменский марксизм), регионализм (идеи единства Великой Сирии, Благодатного полумесяца, Долины Нила, Магриба и т.п.) и страновой национализм (особенно в Тунисе). Четвертой альтернативой выступал панисламизм, специфическим образом имплементировавший исламскую концепцию религиозной уммы в европейский националистический дискурс. Более маргинальное положение занимали идеи неарабского этнического национализма (берберского, курдского и т.п.), внутригосударственного регионализма (Триполитания и Киренаика в Ливии и т.п.), а также панрегионализма (например, средиземноморского единства (Ливан, Тунис) или африканской идентичности (Марокко, Египет, Судан).
В отдельных случаях эти идеологии не только конкурировали друг с другом, но и дополняли одна другую, как дополняли друг друга идеи панарабизма и египетского эксепционализма (fir'auniya).
Все эти идеологические построения, сколь бы оригинальными они ни были, создавались в рамках европейской общественно-политической мысли, в категориях которой их авторы пытались описать (или сконструировать) региональную реальность. Именно поэтому в большинстве этих концепций вопрос о нации был лишь элементом более общей (иной раз — тотальной) идеологической конструкции, интерпретировавшей тем или иным образом идеи великих европейских идеологий.
При этом перенесение на ближневосточную почву европейских концепций, очевидно, требовало их адаптации к особенностям многоукладных обществ. Так, обращаясь к общественно-политической мысли левого толка, арабские политики, как правило, отказывались от идеи межклассовой борьбы, пытаясь выстроить корпоративное государство; практически никогда они не уничтожали полностью частный сектор в экономике; и наоборот, при всех моделях экономической либерализации доля государственного сектора оставалась очень высокой. Наконец, совершенно неприемлемым для местных условий оказывался атеистический дискурс левых.
Однако, несмотря на всю разнонаправленность этих гибридных идеологий, на практике ни одна из них не вела к отрицанию принадлежности соответствующей страны к арабскому и исламскому миру, что в институциональном плане проявлялось в членстве государств в ЛАГ и ОИК (ОИС). Конечно, на практике арабская и исламская идентичности могли означать совершенно разные вещи. Ислам мог пониматься как ценностная основа всей социально-политической системы (например, Саудовская Аравия), а мог - просто как составляющая часть культурно-исторического наследия общества (баасистская Сирия, бургибов- ский Тунис и т.д.). Точно так же и принадлежность к арабскому миру могла определяться как основной цивилизационный маркер (например, у насеристов или баасистов), а могла — как один из маркеров, равный другим (средиземноморским, африканским, исламским и пр.).
Это общее понимание арабо-мусульманской цивилизационной принадлежности, существовавшее в условиях доминирования существенно различающихся между собой гибридных идеологий, позволяет говорить о существовании общей модели идеологического нациестроительства.
Вторым следствием незавершенности нациогенеза (и гибридного характера идеологий) стал дефицит легитимности государств региона.
Существование каждого из них никогда не было безусловным, никогда не рассматривалось как абсолютно естественное — отсюда бесконечные дискуссии об объединении или, наоборот, разделении тех или иных стран — одних проектов объединения нескольких государств в рамках федерации или конфедерации можно назвать более десятка. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев проекты эти оставались неосуществленными. Исключение составляет краткий и не очень успешный опыт существования ОАР, болезненное объединение Северного и Южного Йемена и вполне успешный, хотя и специфический проект ОАЭ. Если само появление проектов объединения или, напротив, сепарации было связано с поисками национальной идентичности, которыми была пронизана вся арабская общественно-политическая мысль приблизительно в первые две трети XX века, то причины их нереализованности состояли как раз в специфике политической и социально-экономической реальности региона. В этой реальности существовал определенный набор в основном вполне признанных государств, каждое из которых развивалось в собственной логике и политические системы которых, их экономические и социальные структуры по мере развития все более дифференцировались (достаточно сравнить в этом отношении траектории развития Саудовской Аравии и, например, Сирии).
Другое обстоятельство, препятствовавшее оформлению современной государственности, было связано с вышеупомянутым несоответствием социального уклада и государственных институтов.
Понятно, что асинхрония социально-экономического и политического развития арабских стран проявлялась в разной степени и по-разному. В государствах Залива, изначально демонстрировавших относительную гармонию социально-экономической и политической сфер, рост нефтяных доходов и необходимость включения в мир-систему вели к тому, что экономическая модернизация значительно опережала политическую. В арабских республиках-нефтеимпортерах, а также в Алжире ситуация была прямо противоположной — современные политические институты в них действовали в условиях в основном традиционного общества. Наконец, в Марокко и Иордании и политическая система, и социум сочетали в себе признаки традиции и модерна.
Описанная дисгармония развития имела своим следствием непреходящую многоукладность и усиливающуюся фрагменти- рованность арабских социумов.
Рост доходов и качества жизни широких слоев населения в арабском мире в последние два-три десятилетия (в период неолиберальной экономической политики и роста цен на углеводороды) привел к повышению покупательной способности и увеличению спроса главным образом на западные товары3. В социально-политическом отношении итогом этого стало повышение действенности инструментов «мягкой силы» государств Запада4, распространение некоторых элементов западного образа жизни и ценностей, что повлекло за собой угрозу размывания традиционных идентичностей и социальных связей и — по принципу вызова-ответа — их актуализацию и усиление социальной фрагментации.
Дополнительным стимулом для такой фрагментации стал бюрократический характер большинства арабских режимов, в которых возможность производства богатств определялась не успехами среднего бизнеса в инновационном развитии, а наличием у него доступа к центрам политической власти, что, в свою очередь, укрепляло патриархальные связи и клановость.
Впрочем, в значительной степени поддержание фрагмен- тированности, конфессионализма, патримониальных и неопатримониальных расколов было и элементом сознательной стратегии режимов, позволявшей им поддерживать авторитаризм. Сохранение статуса подданных, препятствовавшее развитию гражданского самосознания, осуществлялось по-разному в разных странах, однако результатом неизменно оказывалось подавление плюрализма и непреходящая диктатура большинства, обеспечивавшая сохранение авторитаризма.
В странах-нефтеимпортерах, а также отчасти в Ливии и Алжире социальная фрагментация развивалась в условиях деидеологизации режимов, приобретении ими постмодернистского характера, когда элементы самых разных идеологических дискурсов использовались элитами для достижения прагматических целей5. В совокупности с либеральной экономической политикой идеологическая эклектика привела к формированию общества потребления, развитие которого, однако, в отличие от стран Запада, не было обеспечено экономическим потенциалом (опять-таки кроме Ливии). Результатом всех этих процессов стал серьезный ценностный кризис многих арабских социумов, растущее ощущение фрустрации (особенно в сфере семейнобрачных отношений) и относительная депривация, ставшая в итоге одной из основных причин событий «арабской весны».
Другим следствием дисгармонии социально-политического развития стали определенные институциональные дисбалансы, при которых отдельные институты государственной власти (армия, бюрократия, отчасти институты, обеспечивающие социально-экономическую поддержку населения и развитие) оказывались значительно более развиты, чем другие (политические партии, выборы, институты гражданского общества).
Вообще, если рассматривать новейшую историю арабского мира через призму развития институтов, то, по всей видимости, в ней можно выделить несколько основных этапов.
Первый - это вышеупомянутый колониальный период и первые годы независимости, когда были созданы базовые верхушечные институты управления, опирающиеся на привилегированные социальные группы (обычно представленные местным населением, но в некоторых случаях (Алжир, в меньшей степени — Тунис, Ливия) — европейцами). Политические партии и движения, возникавшие на этом этапе, либо представляли собой клубы вестернизированной элиты (например, в Ливии, где они возникали на основе элитарных спортивных клубов), либо служили вестернизированной декорацией для традиционных структур (например, в Судане).
Второй — это период «авторитаризма развития» (1950- 1960/70-е годы), характеризовавшийся укреплением институтов государственной власти, возникновением суперпрезидентских республик, становлением однопартийных систем, концепции корпоративного государства, укреплением силовых структур и их политизацией.
Окончание этого периода было связано в большинстве случаев с кризисом панарабизма после поражения арабских армий в войне 1967 года, а также с изменившейся международной конъюнктурой, заставившей режимы провести либеральные экономические реформы в 1970-е годы.
Третий — это период гибридного авторитаризма, или «фасадной демократии» (1980-2010), характеризовавшийся формальным введением многопартийности, становлением доминантно-партийных систем, развитием институтов гражданского общества в ряде стран, частичной деполитизацией силовых структур.
Относительная либерализация политической сферы в этот период была связана с целым рядом факторов, среди которых особо стоит отметить естественную смену поколений (к середине 1970-х годов в активный возраст вошло первое поколение, родившееся в период независимости и требовавшее политического участия), идеологический кризис и распространение исламизма в 1980-е годы (связанное с советским вторжением в Афганистан и исламской революцией в Иране), крах биполярной системы и превращение демократии в своеобразное sine qua none нового миропорядка.
Важным элементом развития государственности на этом этапе стало постепенное становление институтов гражданского общества в 1990-2000-е годы, вызванное ростом благосостояния граждан, большей открытостью государств, восприятием образованными слоями общества западных ценностей и норм поведения.
Отчасти появление этих институтов было инициировано самими режимами, пытавшимися таким образом манипулировать обществами, но основную роль здесь все же сыграла модернизация социальной сферы, развитие системы образования и т.д. Так, например, число зарегистрированных волонтерских организаций в арабских странах выросло в период 1995-2007 годов со 120 000 до 250 000. Активность этого формирующегося гражданского общества, изначально направленная в основном на социальную сферу (благотворительность, поддержка неимущих, социальные проекты), была во многом связана с деятельностью исламистских организаций («Братья-мусульмане» в Египте, «Хизбалла» в Ливане, ХАМАС в Палестине, исламские благотворительные фонды и т.д.). Однако постепенно — в 2000-е годы — и уже вне всякой связи с исламистами она начала распространяться и на другие сферы, прежде всего на защиту гражданских прав населения. По мере информатизации стали формироваться альтернативные официальным независимые СМИ и интернет-ресурсы, большую протестную активность в ряде стран демонстрировала корпорация адвокатов, начали появляться (полу-) независимые НПО, защищающие права женщин и т.д. В конце 2000-х годов (особенно в 2008 году) в таких странах, как Египет и Тунис, фиксируются массовые забастовочные движения, задавленные властью, но поддержанные гражданским обществом.
Вместе с тем этот процесс развития гражданского общества затронул разные страны в неодинаковой степени и где-то вообще был незаметен. Так, в Саудовской Аравии и некоторых других государствах Залива независимые гражданские организации были запрещены или представляли собой контролируемые властью формы организации родоплеменных, этноконфес- сиональных и других традиционных социальных групп.
Приведенная периодизация — это, конечно, своеобразный «идеальный тип», обнаружить который в реальной политической истории каждого отдельно взятого государства региона едва ли возможно. В наибольшей степени к нему приближаются Египет и Тунис, отчасти Алжир. Впрочем, и в них все обстояло по-разному. Так, в Тунисе армия всегда оставалась деполитизированной, а гражданские институты оказались, несомненно, более развитыми, чем в других странах, — еще в период борьбы за независимость профсоюзы представляли собой вторую по величине гражданскую организацию страны (первой была партия «Новый Дустур»), а на протяжении всего независимого развития они оставались главным каналом обратной связи между обществом и властью. В Алжире, несмотря на все реформы и всю модернизацию, традиционные связи, племенной кпиентелизм остаются основой не только социальных, но и политических отношений на локальном и региональном уровнях и сегодня. Вместе с тем в таких монархиях, как Марокко или Иордания, активное развитие современных демократических институтов политической власти (в особенности в Марокко) оказывается возможным именно благодаря институту монархической власти, обретающему легитимность и завоевывающему лояльность общества посредством традиционных инструментов (в том числе через хашимитское происхождение династий). В Сирии либерализации политической сферы так и не произошло, в Ираке обвальная демократизация была вызвана иностранной интервенцией, ливийская политическая система, выстроенная М. Каддафи, основывалась на принципиальном отказе от создания общепринятых институтов политической власти, а специфические джамахирийские институты, по сути дела, служили формой мимикрии традиционных племенных отношений. Что касается монархий Аравийского полуострова, то там институты развивались в описанном направлении, однако очень медленно: процесс начался позже, общество практически не было модернизировано, а нефтяная рента позволяла долго консервировать традиционный уклад. Наконец, особый случай составляет Ливан, где парадоксальным образом произошло активное развитие гражданских институтов (в основном на традиционной этноконфес- сиональной основе), однако институты государственной власти оказались очень слабыми, что привело к перманентному политическому кризису.
Фрагментированность арабских обществ в совокупности с дисгармонией институционального развития и эклектичностью режимов привели к формированию так называемых множественных государств (multiple states) в регионе. Описывая их, С.К. Фарсум говорит о существовании трех государств в одном.
Первое — это так называемое историческое государство, где традиционная бюрократия функционирует как инструмент политического патронажа, а правящая элита использует патронаж, чтобы консолидировать свои позиции и добиться солидарности и поддержки от разных слоев общества. Второе — это «современное государство» (modern state), представляющее собой конгломерат автономных или полуавтономных бюрократических ведомств. Это государство технократов, зачастую получивших западное образование и ориентированных на развитие местной буржуазии. Оно выполняет две важнейшие функции: планирование, финансирование и создание новых экономических предприятий и инфраструктуры; и организация проектов, их финансирование и управление бюрократией в сфере социальной поддержки населения. «Второе государство» играет ключевую роль в поддержке своеобразного договора об обмене экономических благ на политические права, гарантировавшего консолидацию режимов. Наконец, «третье государство» — это в сущности своей репрессивный аппарат, представляющий собой закрытую касту, защищающую правящую элиту.
Помимо этих трех государств сегодня имеет смысл говорить еще как минимум о двух.
Во-первых, это государство креативного класса, составляющее основной субстрат для активно развивающегося гражданского общества. Оно относительно независимо от первых трех государств, модернизировано, интегрировано в западное информационное пространство в большей степени, чем другие, разделяет либеральные ценности (обычно — в их леволиберальной интерпретации). Занятость в интеллектуальной сфере в относительно независимых от государства секторах экономики, прочные связи с западным миром обеспечивают некоторую автономию этого класса.
Во-вторых, это традиционное государство, сохраняющееся в сельской местности и в пригородах городских агломераций, куда переселяются вчерашние сельчане, воспроизводя здесь традиционные модели социальных отношений. Если для креативного класса характерен усиленный индивидуализм, то эти традиционные слои общества, напротив, обыкновенно социоцентричны. Однако подобно последним они сохраняют значительную автономию от первых трех государств, подчас мало интегрируясь в современные секторы экономики и воспроизводя на локальном уровне традиционные модели властных отношений, основную роль в которых по-прежнему играют не чиновники или партийные деятели, а племенные шейхи, религиозные авторитеты и т.п.
Понятно, что последние два государства в сущности своей составляют оппозицию первым трем, и именно их лояльность арабские режимы на протяжении долгого времени были вынуждены покупать социальными программами, относительной автономией интеллектуальной сферы и т.д. При этом бытующее мнение о деполитизированности традиционного общества или креативного класса кажется сегодня неверным. Возможно, точнее было бы говорить о стратегиях «вненаходимости», описанных А. Юрчаком для общества позднего социализма. Такие стратегии предполагают принятие политического мира на формальном уровне, даже активную вовлеченность в этот мир при одновременном его неприятии на уровне сущностном. Так, например, племенные шейхи в Алжире или Ливии могли занимать определенные государственные должности, выступая агентами власти на местах, однако в реальности источником их легитимности служили именно традиционные связи, а не государственное назначение. Точно так же и интеллектуалы, формально принимая существующий режим, вроде бы отказываясь от борьбы с ним, в реальности переносили свою активность на сферу гражданских отношений (например, в рамках правозащитных организаций), тем самым способствуя его ослаблению и делегитимизации.
Арабское пробуждение и кризис государственности
Гибридный характер идеологий нациестроительства, дефицит легитимности государств, фрагментированность обществ, дисбалансы институционального развития, порожденная этим «множественность государств» и связанные со всем этим структурные противоречия ярко проявились в период арабского пробуждения, обозначившего глубокий кризис государственности в странах региона.
Если анализировать события, начавшиеся в 2010 году, через призму проблем государственности, то они допускают несколько взаимодополняющих интерпретаций.
Во-первых, их можно рассматривать через призму теорий демократического транзита, считая, что основным стремлением протестовавших в 2011 году было именно расширение политического участия, а сами протестовавшие представляли главным образом описанный креативный класс со всеми его особенностями, его вестернизированностью и приверженностью (условной) к либеральным ценностям.
При таком подходе демократизация является не инструментом социально-экономического прогресса (что, вообще говоря, сомнительно, учитывая позитивный азиатский и негативный африканский опыты), а самоцелью развития гражданского общества и инструментом гармонизации его отношений с властью.
Во-вторых, их можно рассматривать как результат исчерпанности социального контракта между обществом и государством. Невыполнение последним его социально-экономических обязательств, приведшее к росту безработицы и коррупции, в совокупности с завышенными ожиданиями общества потребления, рассматривавшего социальную политику властей не как благодеяние, но как одно из своих неотъемлемых прав, вывело на площади как креативный класс, так и традиционные слои общества, ставшие ударной силой революций.
Две эти интерпретации более или менее соответствуют двум из трех основных подходов к анализу феномена арабского пробуждения, распространенных в российском экспертном сообществе, — политико-психологическому, вписанному когда в либеральную, а когда в структуралистскую или постмодернистскую парадигму, и социально-экономическому, наследующему марксистские традиции. Третий подход, подчеркивающий роль внешнего фактора, ведет к рассмотрению обществ региона как объектов, а не субъектов политической активности, и потому нас не интересует.
В-третьих, эти события можно рассматривать через призму теорий неоколониализма — точка зрения, в российском академическом сообществе не пользующаяся какой-либо популярностью. Свергнутые режимы в таком случае оказываются внутренними колонизаторами, узурпировавшими власть и публичную сферу как таковую.
Первая и третья интерпретации позволяют выявить две ключевые проблемы всего последующего развития этих стран: демократия и институты, с одной стороны, и суверенитет — с другой. В то же время незавершенность процесса не позволяет пока что говорить о проблеме социально-экономической программы развития стран региона и о возможности обновления социального контракта. Две же указанные проблемы, как видно, прямо соотносятся со структурными слабостями модели арабской государственности: демократия и институты — с «множественностью государств»; а суверенитет — с дефицитом легитимности и незавершенностью нациестроительства.
Демократия и институты
Вне зависимости от того, какое представление протестовавшие в 2010-2011 годах имели о демократии, очевидным итогом протестов стало расширение политического участия во всех без исключения странах региона, по крайней мере, на первом этапе (201 1-2013 годы). И в этом отношении эти события можно рассматривать как естественное развитие процессов демократизации, начавшихся в 1970-е годы, и как попытку положить конец «арабскому эксепционализму». Вместе с тем столь же очевидно, что об ограниченной демократизации в собственном смысле слова речь здесь может идти только относительно Туниса, Марокко, отчасти Иордании, Египта и Алжира. Причем в последних двух случаях это утверждение спорно, поскольку, по мнению многих авторов, «июльская революция» 2013 года фактически вернула Египет к авторитаризму (правда, обновленному, с более широким, нежели прежде, политическим участием), а алжирские политические реформы имели скорее декоративный характер. Высочайший уровень абсентеизма на парламентских выборах 2012 года и президентских 2014 года в совокупности с 84%, набранными на последних тяжело больным А. Бутефликой, вряд ли свидетельствуют о демократизации. Неудачей в конечном счете окончился и национальный диалог в Бахрейне, свернутый к 2015 году (хотя ситуация может и измениться).
Вместе с тем в таких странах, как Ливия, Сирия и Йемен, расширение политического пространства обернулось полномасштабными гражданскими войнами и в случае Ливии, да и Йемена, — фактическим разрушением государственности.
В конечном счете можно видеть, что наиболее успешным процесс расширения политического участия оказался в тех странах, где и госинституты, и институты гражданского общества были одинаково хорошо развиты — прежде всего в Тунисе и Марокко. Причем если во втором двигателем демократизации выступил сам режим (как он пытался выступить и в Бахрейне, предложив программу реформ), то в Тунисе ключевую роль сыграло гражданское общество. В тех государствах, где гражданское общество было слабо по сравнению с институтами политической власти, последняя сумела быстро перехватить инициативу, затормозив процесс или обернув его вспять. Это относится к Египту, Алжиру, а также большинству монархий Залива, где вызов со стороны общества был довольно слабым. Характерно, что характер госинститутов — современные они или традиционные монархические — играл второстепенную роль, хотя монархии по природе своей и пользуются большей легитимностью, чем республики. Наконец, те страны, в которых институциональное развитие вообще было слабым, оказались близки к уничтожению государственности. Прежде всего это относится к Ливии, но также до некоторой степени и к Йемену, Ираку и Сирии.
В последних двух случаях симбиоз между институтами государственной власти и определенными этноконфессиональными группами (алавиты в Сирии, курды в Иракском Курдистане, шииты в Багдаде, а также сунниты в центральном Ираке, ставшие основой для ИГ) придавал борьбе за сохранение (в Сирии) или ревизии (в Ираке) государственности экзистенциальный характер. Кстати говоря, подобным образом могла бы сложиться ситуация и в Бахрейне, если бы конфликт между властью и оппозицией не был купирован (и если бы Бахрейн не был островом, что делало внешнее влияние более контролируемым). Вместе с тем в Ливии и Йемене, где основу системы политических отношений составлял постоянно менявшийся баланс между племенными, региональными, конфессиональными (в Йемене) и другими группами, государственность оказалась провальной.
Расширение политического участия, вне зависимости от того, происходило ли оно в институциональных рамках, как в Египте (в основном), Тунисе или Марокко, или же вне их — как в Ливии, в любом случае означало вовлечение в политику традиционных слоев общества, и соответственно традиционализацию политических отношений.
В тех случаях, когда этот процесс идет по «мягкому» сценарию — без разрушения институтов, — в перспективе он должен обернуться гармонизацией социально-политических отношений и повышением эффективности государства. Проще говоря, должна быть преодолена ситуация «множественности государств» — вместо пяти государств в одном в итоге мы должны получить единое государство — более традиционное в ценностном отношении, но более демократическое в институциональном.
Чисто теоретически повышение эффективности институтов в дальнейшем должно стать залогом социальной модернизации, либерализации общественных отношений и в конечном итоге снижения роли традиционализма.
Пожалуй, наиболее интересный пример в этом отношении сегодня демонстрирует Тунис, где становление институтов свободных выборов, реальной многопартийности, свободной прессы и т.д. создало условия для политического вовлечения гражданского общества. В результате многие социальные проблемы, ранее табуированные, оказались в центре общественных дискуссий — расизм, гендерное неравенство, права ЛГБТ, ответственность государства перед социально незащищенными слоями и т.д.
Однако такая активизация общественной жизни не помешала традиционализации политических отношений, в особенности на локальном уровне, где спустя десятилетия люди вновь вспомнили о межплеменных распрях, актуализировались локальные идентичности (в частности, чрезвычайно популярным стало требование возвращения доходов от экспорта природных ресурсов в местные региональные бюджеты), усилилась повседневная религиозность.
В тех же случаях, когда политический процесс развивается по жесткому сценарию, как в Ливии, Сирии или Йемене, расширение политического участия оборачивается разрушением или по меньшей мере деградацией государственности, в результате чего происходит полная традиционализация политической сферы. В зависимости от конкретной ситуации она может оборачиваться ростом трайбализма (как в Ливии), этноконфес- сионализма (как в Сирии) или же того и другого вместе (как в Йемене и Ираке). Политическая реальность этих стран находится в стадии полураспада, и даже в случае какого-либо прогресса в мирном урегулировании она будет переформатирована, причем традиционный элемент будет играть в ней большую роль, нежели раньше.
Суверенитет без суверенов
Если рассматривать трансформацию региона через призму концепций неоколониализма, то на первое место выступает проблема суверенитета.
С точки зрения сторонников такого подхода, получение независимости арабскими странами не привело к обретению ими полного суверенитета. Так или иначе, на протяжении всего XX века эти государства если и не были полностью лишены самостоятельности, то все же в значительной степени оставались объектами действий крупных внерегиональных держав — прежде всего США и СССР, в меньшей степени государств Европы, от которых они зависели в экономическом, военно-политическом и культурном отношениях, а также — в случае Палестины — Израиля, оккупировавшего палестинские территории в 1967 году.
Кроме того, как и в других регионах мира, в последние годы происходило размывание суверенитета государств региона в результате их включенности в процессы глобализации и регионализации, в том числе в региональные интеграционные проекты, наиболее значимым из которых был и остается Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Все это позволяет говорить о преимущественно внешнем характере суверенитета арабских стран в это время.
Впрочем, дело здесь даже не столько в особенностях положения арабских государств в мировой политической системе, сколько во внутриполитических системах самих этих государств, позволивших их критикам говорить об отчуждении режимов от народов и об узурпации ими суверенитета. Модернизированные правящие арабские режимы, выполнявшие по сути дела функцию прогрессоров, в таком случае предстают неоколонизаторами, проводившими антинародную политику, носителями чуждых обществу ценностей и моделей поведения, и действовавшими в интересах сил, находившихся за пределами государства (западного истеблишмента, к которому они, по сути, и принадлежали).
Вне зависимости от того, насколько справедливы были эти обвинения, мысль о том, что свергнутые режимы носили антинародный характер, были излишне вестернизированы, оторваны от корней и т.д., разделялась многими протестующими и значительной частью политических сил, претендовавших на власть в постреволюционный период (в частности, исламистов и ультралевых).
Расширение политического участия и последовавшая за ним традиционализация системы политических отношений в таком случае должны рассматриваться как процессы укрепления национального суверенитета, его перехода от относительно изолированной группы к более широким слоям населения. На практике такой переход означал частичное или полное распыление суверенитета или - в крайних случаях - ситуацию суверенитета без суверена.
В самом деле, если понимать суверенитет в духе К. Шмитта, как способность действовать в чрезвычайных обстоятельствах, то революция и «внутренняя деколонизация» привели к уничтожению реального носителя суверенитета — власть вернулась к своему источнику (народу), но обрела слишком много представителей. Если в случае с Тунисом это обернулось просто слабостью правительств и их неспособностью проводить непопулярные меры, то в случае Ливии это означало появление огромного количества центров силы (милиции, «Рассвет Ливии» в Триполи, гражданское правительство в Тобруке и генерал X. Хафтар, ИГ и др.).
Особый случай представляет здесь Египет, где «июльская революция» 2013 года вернула ситуацию к истокам, позволив преодолеть поляризацию общества (или по меньшей мере минимизировать ее политический эффект). Декларируемые экономические успехи режима А. ас-Сиси, необходимость противостояния вполне реальным угрозам безопасности и стремление к повышению легитимности и инклюзивности режима посредством электоральных процедур позволили ему консолидировать общество, став единственным реальным носителем суверенитета.
Впрочем, очевидная экономическая зависимость нового египетского режима от Эр-Рияда позволяет вновь говорить о наличии элемента внешнего суверенитета.
Вообще, усиление роли региональных акторов в мировой политике привело к тому, что такие страны, как Турция, Иран и Саудовская Аравия (а также в меньшей степени Катар и ОАЭ), попытались стать бенефециариями описанного процесса распыления суверенитетов, как посредством косвенного участия во внутриполитических процессах (через поддержку лояльных им сил — салафитских в случае с Саудовской Аравией, шиитских — в случае с Ираном, «Братьев-мусульман» в случае с Катаром и т.д.), так и посредством прямого вооруженного присутствия (Бахрейн, Йемен, Сирия).
Между тем кризис институтов и распыление суверенитета имели еще один неожиданный итог. Под сомнение оказалась поставлена территориальная целостность государств региона и их территориально-административное устройство, причем это касается не только таких стран, как Ливия, Сирия, Ирак или Йемен, о невозможности сохранить единство которых часто говорится прямо, но и таких вполне на первый взгляд благополучных государств, как Египет, Тунис, Саудовская Аравия и др.
В случаях Йемена, Сирии и Ливии регулярно озвучивающаяся идея федерализации скрывает под собой попытки местных властей и западных экспертов придумать модель сохранения государственности в ситуации ослабления или распада институтов (или — в случае Ливии — уничтожения системы личной власти, маскировавшей отсутствие институтов). Иракский опыт показал, что подобная стратегия имеет вполне определенные пределы — единство рыхлой федерации зависит от нахождения консенсуса между региональными элитами относительно разделения доступа к ресурсам страны, и, разумеется, от интересов третьих стран. В случае нарушения межрегионального баланса или изменения международной обстановки система оказывается чрезвычайно уязвимой. Однако в других случаях (Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Египет и др.) речь обыкновенно идет не о федерализации как таковой, но о децентрализации (ал-лямар- казийя) или других формах имплементации элементов федерализма в систему управления странами. При том, что формально децентрализация во всех этих странах является официальной государственной политикой, направленной на стимулирование развития локальных сообществ, в реальности она всегда выполняет разную роль.
В Ливане речь фактически идет о скрытой федерализации, направленной на сбалансирование интересов локализованных этноконфессиональных групп. Ливанский опыт в значительной степени был заимствован американцами при выстраивании новой иракской государственности.
В Алжире и особенно Марокко она служит средством авто- номизации отдельных областей страны — контролируемой Рабатом части Западной Сахары в Марокко и Кабилии в Алжире. При этом в обеих странах сама постановка вопроса о регионализации или федерализации представляется невозможной (в особенности в Алжире, где это рассматривается через призму берберского сепаратизма).
В Тунисе же вопрос о «дефаворизованных» регионах был поставлен на повестку дня революцией 2011 года и рассматривался в контексте обеспечения доступа элит этих регионов к власти и финансовым ресурсам страны.
Очевидно, что во всех случаях без исключения федералистские тенденции могут рассматриваться двумя прямо противоположными образами. С одной стороны, как стремление усовершенствовать политическую систему, создать более тонкие механизмы управления и тем самым повысить инклюзивность политической власти. Это особенно ярко видно в традиционно суперцентрализованном Египте, в новой конституции которого шесть статей посвящено проблемам децентрализации, полномочиям местных советов и т.п. (в конституции 1971 года таких статей было всего две). Укрепляя выборность местных властей и расширяя полномочия местных советов в административной и финансовой сфере, правительство не только вовлекает регионы в управленческие процессы, но и — по крайней мере — теоретически, стимулирует развитие гражданского общества и демократии в стране.
С другой же стороны, федералистские начинания могут рассматриваться как попытка центральной власти сохранить единство страны, найдя консенсус с региональными (зачастую иноэтническими или иноконфессиональными) элитами. В случае Ирака это выражено особенно четко.
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать:
- во-первых, наблюдаемый сегодня кризис государственности в арабских странах предопределен фундаментальными противоречиями ее модели: незавершенностью нациестроительства, дефицитом легитимности государств, фрагментированностью общества и дисбалансами институционального развития;
- во-вторых, наиболее значимыми проявлениями этого кризиса являются деградация институтов, ретрадиционализация политического пространства, распыление суверенитета, ревизия границ и административно-территориального устройства;
- в-третьих, фундаментальная слабость модели поможет привести и к другим проявлениям кризисности даже в тех странах, которые пока что кажутся стабильными.
ИГ — альтернативная государственность?
В последний год тема альтернативной модели государственности для Ближневосточного региона стала чрезвычайно популярной. При том, что сами по себе идеи разнообразных альтернативных проектов на протяжении XX века появлялись довольно часто (в связи с созданием Палестинского государства, курдской проблемой, третьей мировой теорией М. Каддафи и др.), все же они занимали обычно маргинальное положение и почти никогда не доходили до воплощения в жизнь (вспомним идею демократического конфедерализма А. Оджалана). Однако стремительное усиление «Исламского государства», его экзотизм, кажется, создают впечатление внезапного появления реальной альтернативы.
Образовавшееся в 2006 году в результате слияния одиннадцати отпочковавшихся от иракской «Аль-Каиды» ИГ до 2013 года было малоизвестно — численный состав организации насчитывал в первые годы всего несколько тысяч человек17, в основном бывших солдат и офицеров из армии Саддама Хусейна. Деятельность организации в то время была направлена против американцев и нового руководства страны, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из политического пространства баасистов и всю старую элиту.
Радикальная трансформация ординарной джихадистской группировки была связана, во-первых, с разгоранием сирийского конфликта, дестабилизировавшего обстановку в Ираке, а во-вторых, с приходом к власти в ИГ Абу Бакра аль-Багдади весной 2011 года, взявшего курс на самофинансирование организации посредством грабежей, экспроприации имущества «неверных», рэкета, контрабанды и т.д.
Широкую известность деятельность ИГ приобрела летом 2014 года, когда бойцы организации захватили Мосул и начали активное наступление в Ираке и Сирии.
На сегодняшний день ИГ контролирует территорию в Сирии и Ираке, сравнимую по площади с Великобританией и с населением до 8 миллионов человек. В рядах ИГ сражается несколько десятков тысяч человек (по некоторым источникам — 80-100 тысяч) из самых разных стран мира, в том числе более 1700 человек из России (по неофициальным данным — значительно больше).
Понятно, что вопрос о характере ИГ до сих пор остается открытым, однако некоторые предпосылки для рассмотрения его именно в качестве государства, а не просто как нового издания джихадистских организаций, существуют, и по этому поводу сегодня уже сказано и написано немало. В контексте настоящего текста имеет смысл задаться только двумя вопросами: 1) что собой представляет проект, предлагаемый ИГ (если он есть), и 2) может ли ИГ решить проблему нациестроительства, преодолеть фрагментированность социумов и гармонизировать институциональное развитие?
Впрочем, даже если оно не сможет решить этих проблем, однако окажется успешным хотя бы в преодолении видимых проявлений кризиса государственности, то его уже можно будет определить как временно успешный проект, несмотря на все его варварство и жестокость.
Проект ИГ
Выдвигая собственный проект государствостроительства, ИГ продолжает салафитскую традицию призыва мусульманской общины к возвращению к временам праведных халифов и пророка Мухаммада. При том, что эта общая салафитская идея всегда пользовалась определенной популярностью в арабо-мусульманском мире, различные мыслители и религиозно-политические деятели интерпретировали ее совершенно по-разному.
В отличие от «Братьев-мусульман», тунисской «Ан-Нахды», ХАМАСа и других исламистских организаций, пытающихся в своей идеологии совместить исламские ценности с идеями национализма и принципами демократии, ИГ, как и породившая его «Аль-Каида», занимает принципиально антимодернистские и антизападные позиции. Соответственно, анализ проекта, выдвигаемого ИГ, предполагает обращение к модели раннемусульманской государственности как таковой и выделение основных ее элементов.
Проблема здесь состоит в том, что государственность в применении к арабо-мусульманской политической истории и культуре может пониматься двояко.
С одной стороны, речь может идти о реальной государственности, существовавшей в регионе в доколониальный период.
Такая «реальная» государственность в арабо-мусульманском мире имела двоякое происхождение — с одной стороны, она была порождена религиозным призывом пророка Мухаммада, с другой — арабо-мусульманскими завоеваниями VII-VIII веков и необходимостью установления контроля над завоеванными территориями и организации управления. Амбивалентность происхождения сказывалась и на структуре арабо-мусульманского государства, и на источниках его легитимности, и на его политической идентичности. С одной стороны, это было исламское государство для мусульман, основные институты которого были установлены пророком Мухаммадом и праведными халифами, власть халифа имела религиозное обоснование, а немусульманское население (в основном иудеи и христиане), считаясь «покровительствуемым», обладало собственной юрисдикцией и облагалось особыми налогами. С другой стороны, это было этнократическое государство - при Омейядах - арабское, при Аббасидах арабо-персидское и арабо-тюркское и т.д. Его правители активно использовали историческую мифологию для обоснования своего права на престол, опирались на трайбалистские и этнические группы в осуществлении власти и т.д.
Помимо сочетания религиозно-идеологического и этно- племенного элементов для реальной арабо-мусульманской государственности было характерно активное заимствование и преобразование практик управления покоренных и соседних народов (прежде всего Византии и Ирана), их переосмысление, постепенное усложнение политической архитектуры.
Наконец, эта реальная государственность отличалась, в об- щем-то, светским характером институтов (насколько о них можно говорить) и методов управления.
Последний тезис, конечно, не означает секулярности государства, однако он означает эмансипацию реальной политической власти от ее религиозных истоков. Примерно с X века (со времен Бувайхидов) аббасидский халиф сохранил за собой исключительную функцию легитимизации власти реальных правителей — сначала бувайхидских умара' ал-умара', а затем сельджукских султанов.
Вместе с тем речь может идти и о концепции исламской государственности, к которой, собственно, и обращается ИГ.
Развивавшаяся в трудах мусульманских правоведов, эта концепция, в основной своей части, не была направлена на описание существовавшей политической реальности и из этой реальности не проистекала. Для создававших ее мыслителей дело заключалось не в том, чтобы научить правителя править лучше (для того существовал жанр «княжеских зерцал»), и не в том, чтобы объяснить феномен власти, которым интересовались философы, а в том, чтобы описать, каким должно быть праведное государство, исходя из священных текстов ислама. Не случайно ключевой труд, посвященный исламской государственности, — «Ал-ахкам ас-султанийа» («Властные установления») ал-Маварди был написан только в XI веке, когда никакого единого халифата уже не существовало.
Представляется, что сегодня можно выделить несколько основных элементов концепции исламской государственности, оказывающих наибольшее влияние на проект, выдвигаемый ИГ, и объясняющих его отличия от идеи национального государства — умма, имам, даула, а также бай'а и джихад.
Прежде всего ИГИЛ — это не национальное государство, потому что умма в ее средневековом понимании — это не нация. Как отмечает палестино-египетский мыслитель Тамим ал-Баргути (Tamim al-Bargouti), «физическое бытие индивидуумов называется уммой, если эти индивидуумы представляют себя коллективом и если представление это ведет к тому, что они делают что-то иначе, чем все остальные». Таким образом, в отличие от нации в ее «биологическом» понимании, умма не является природным феноменом. Однако она также не является и воображаемым сообществом, появившимся в результате социально-экономического развития общества, — в отличие от «социального» понимания нации. Предполагающая духовное или идейное родство умма не может быть определена ни территорией своего расселения, ни своей многочисленностью (пророк Ибрахим изначально сам по себе составлял умму), ни своей политической организацией. Если национальное чувство требует обретения государственности, то умма нуждается в политическом оформлении исключительно из практической надобности, однако отсутствие государства не ведет к ее деградации или исчезновению.
Однако умма, кроме того, — это община, следующая за своим имамом, функция которого принципиальным образом отличается от функции руководителя национального государства: «Имамат существует как замещение (ли-хилафат) пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», — писал в XI веке ал-Маварди.
Имам не является ни сувереном, ни законодателем, ни исполнителем, ни судьей. Он, скорее, координатор, призванный следить за исполнением признанных сообществом богословов и правоведов интерпретациями священных текстов, администратор, а также учитель и пример для мусульман, следующих за ним по пути веры и таким образом и формирующих умму. Именно поэтому отсутствие имама ведет к ослаблению и неполноте уммы.
В политическом отношении ал-Маварди выделяет десять основных обязанностей имама, и так или иначе этот перечень соответствует всей суннитской традиции. Большинство из них, хотя и требуют политических действий, имеют религиозное обоснование или назначение: обеспечение религиозной законности, применение установленных Аллахом наказаний для защиты прав верующих, защита Обители ислама (Дар ал-ислам), борьба с отказавшимися принять ислам, взимание налогов (по установленным шариатом нормам), назначение на посты верующих и законопослушных людей, собственноручное управление уммой и защита веры. Помимо них есть две чисто административные обязанности — обеспечение приграничных областей и благоразумное определение доходов и расходов казны; и одна — чисто религиозная: поддержание религии.
В суннитской традиции имам не может быть избран, однако он может получить власть либо по прямому указанию предшественника, либо по согласованному решению сообщества религиозных экспертов, а также захватить ее силой.
Хотя имам и является руководителем не государства — даула, а уммы, действует он все же в рамках первого.
Однако ИГ не является национальным государством еще и потому, что даула в его средневековом понимании — это все же не совсем государство. Даула есть мирская организация уммы, от нее получающая свою легитимность. В классический период истории ислама, к которому и обращен творческий дух ИГ, даула означала прежде всего династию, но никогда не территорию. Даула — образование изначально временное и довольно гибкое, оно нетерриториально, а суверенитет не является его характеристикой, потому что, принадлежа Аллаху, он делегируется Аллахом умме, и только от уммы он передается имаму, а от него — правителям более низкого ранга. В результате даула представляет собой некую политию, в принципе многоуровневую и способную организовываться по сетевому принципу. Так, например, халифат Аббасидов представлял собой даула, но точно также даула представляли собой и входившие в него царства Тулунидов, Тахиридов и др., а Волжская Булгария, не имевшая с ним практически никаких реальных связей, рассматривалась Багдадом как часть этого государства, поскольку именно абба- сидский халиф был источником ее легитимности.
В современном мире даула не узурпирована ИГ — в определенном смысле и контролируемые сегодня Хизбаллой южные районы Ливана, и контролируемые ХАМАС территории Палестины, и контролируемые кочевыми племенами внутренние пространства «большой» Сахары также представляют собой даула в средневековом понимании этого термина. Обладая значительной политической самостоятельностью, они, разумеется, ослабляют национальную государственность в регионе.
Чрезвычайно важным элементом государственности ИГ является бай'а — клятва на верность, дающаяся отдельными социальными группами и индивидуумами имаму. Именно посредством бай'а обеспечивается связь между уммой и имамом и его реальный суверенитет. Институт бай'а,кроме того, существует и в современных арабских монархиях, обеспечивая традиционную легитимность правителей.
Наконец, что касается джихада, то, согласно унаследованным от «Аль-Каиды» Двуречья представлениям, описанным в их известном документе «Наше кредо и наша программа» и выдержанным в радикальной салафитской традиции, он понимается как вооруженная борьба с людьми, отказавшимися принять ислам, является личной обязанностью каждого мусульманина и одним из столпов веры, и, соответственно, отказ от его ведения ведет к такфиру — обвинению в неверии.
Таким образом, предлагаемое ИГ политическое устройство должно быть лишено некоторых слабостей существующей модели государственности a priori. Так, теоретически (но не практически) у «Исламского государства» не может быть проблем с незавершенностью проекта нациестроительства, потому что оно отрицает саму идею нации. Не может у него быть и проблем с дефицитом легитимности и суверенитетом, потому что легитимность его — от Аллаха, а суверенитет распространяется на всю мусульманскую умму. Что же касается институционального развития, фрагментированности общества и всего остального, то это уже вопросы не религиозной теории, а политической практики.
Реализация модели
Стремясь установить твердый контроль над территориями, ИГ вынуждено обеспечивать лояльность местного населения и соответственно вести активную социальную деятельность (выплата зарплат, благотворительные акции, строительство объектов инфраструктуры, обеспечение правопорядка и т.д.). Тот факт, что ИГ приносит с собой пусть и очень жестокий, пусть и совершенно извращенный, но тем не менее понятный порядок, основывающийся на известных правилах, обеспечивает ему поддержку населения (выжившей его части), уставшего от безвластия и хаоса войны.
Социальная активность заставляет ИГ совершенствовать структуру и методы управления. Так, аль-Багдади был провозглашен халифом, у него есть два заместителя, ему подчиняется кабинет министров и правители двенадцати гуверноратов.
Активное участие в рядах ИГ выходцев из саддамовской элиты позволяет руководству организации использовать их управленческий опыт.
Вместе с тем в управленческой структуре значительное место занимают и религиозные элементы: Консультативный совет (шура), проверяющий решения руководства на их соответствие нормам шариата, а также шариатский суд и совет муфтиев.
Многие вполне современные институты государственной власти в ИГ получают религиозную интерпретацию — так, например, социальные службы ИГ управляются Департаментом мусульманских услуг и т.д.
В конечном счете, можно констатировать, что в процессе своего институционального оформления в качестве государства ИГ синтезирует элементы национального государства и исламской архаики, что придает ему неомодернистский характер.
Если в институциональном отношении такой синтез и позволяет выстроить некое подобие реальной государственности, то в других он создает новые противоречия.
Так, идея территориальной государственности (в Сирии и Ираке) естественным образом сочетается в ИГ с детерриториальностью даула, ведь многие джихадистские группировки по всему миру объявили себя подданными халифа аль-Багдади и филиалами ИГ И хотя характер отношений между сиро-иракским ИГ и его ответвлениями по всему миру не вполне ясны, они, тем не менее, могут быть описаны и в парадигме отношений умма-даула, и совершенно по-западному — как франчайзинг.
Двойственность территориальной идентичности ИГ ведет в итоге к расколу организации на прагматиков, ориентированных на укрепление политического образования на ограниченной территории, и романтиков, стремящихся к бесконечной экспансии. Впрочем, этот раскол вряд ли может рассматриваться как фактор ослабления ИГ, потому что у организации есть очевидная возможность экспорта романтиков в филиалы ИГ по всему миру.
Столь же причудливо сочетается архаика и модерн в решении проблемы нациестроительства. С одной стороны, исламский эгалитаризм, идея единства уммы заставляет ИГ способствовать преодолению этно-племенной гетерогенности общества на контролируемых им территориях (разумеется, после уничтожения всех неверных), с другой стороны, решение проблемы через конфессионализм создает новые линии раскола.
Все эти причудливые переплетения вполне на постмодернистский манер дополняются активной информационной деятельностью ИГ, направленной на распространение влияния организации в мире.
Таким образом, «Исламскому государству» сегодня удается пока что решать проблему с внешними проявлениями кризиса государственности — восстановить институты и обновить контракт между обществом и государством, утвердить свой суверенитет над ограниченной территорией и решить проблему границ. Вместе с тем очевидно и то, что ни одна из этих проблем не решена полностью, и не факт, что может быть решена в рамках выстраиваемой модели.
Так, созданные институты и экономический базис социального контракта при всей своей экзотичности могут быть решением на время «джихада» и постоянной экспансии, однако для поддержания жизнедеятельности нормального государства их придется пересматривать. И здесь, конечно, есть определенная ирония истории, потому что в этом отношении игиловцам придется повторить путь Омейядов и вообще раннеисламской государственности, создание которой именно как государственности, а не как завоевательной политии было связано как раз с прекращением экспансии во времена халифа Абд ал-Малика. В тот раз, как известно, неспособность перестроиться привела в конечном счете к Аббасидской революции и затем к дроблению Халифата.
Точно так же не вполне ясно сегодня практическое решение вопроса о суверенитете — бай'а все же является довольно слабым инструментом его укрепления для частично модернизированных обществ. Понятно, что на первый взгляд властям ИГ сегодня удается контролировать определенную (и довольно большую) территорию, однако насколько глубоко и прочно они ее контролируют, неизвестно. Тем более сомнительно утверждение о суверенитете, учитывая непризнанность государства со стороны мирового сообщества.
Наконец, что касается границ и территориально-административного устройства, то, конечно, сетевые структуры, франчайзинговые системы, внетерриториальность — все это звучит очень романтично. Однако на практике говорить об «Исламском государстве» в собственном смысле слова можно только на сиро-иракской территории, что же до остальных, то там речь идет только об определенном брендировании, под которым каждый раз скрывается уникальная ситуация. Так, например, в Ливии «Исламское государство» в сущности своей представляет удобную форму самопрезентации и консолидации ряда малых племен. Да и единство сиро-иракской зоны тоже вызывает множество сомнений, в том числе из-за иракского доминирования в руководящих структурах ИГ
Наконец, если смотреть на глубинные проблемы государственности, то с их решением у ИГ дело обстоит еще хуже.
Идея единой исламской нации, конечно, поэтична, однако она может быть привлекательной лишь для некоторого количества пассионариев, в основном из западной исламской псевдоуммы23, но она совершенно не учитывает существующих региональных идентичностей, которые в реальных социальных практиках обычно оказываются важнее конфессиональных. Кроме того, что касается собственно сиро-иракского населения, то оно вынуждено присоединиться к ИГ в силу ужасающих условий военного существования и просто отсутствия выбора. Точно так же и молодежь из многих арабских стран вступает в ИГ, руководствуясь не религиозными идеями как таковыми, а из-за разочарованности в собственных государствах. «Здесь нет справедливости, нет свободы, нет будущего» — такие слова можно услышать от молодых людей бедняцких районов Туниса, решивших присоединиться к ИГ, где все это, с их точки зрения, есть. Свобода и справедливость в этом дискурсе понимаются специфически — как отсутствие унижений со стороны государства, как неотчужденность от него.
Таким образом, этим молодым людям представляется, что ИГ дает возможность преодоления общественно-политической фраг- ментированности — его элиты не узурпируют власть, они аутентичны. Однако на практике эта возможность пока что достигается исключительно репрессиями и геноцидом социальных групп, а потребность в развитии, в укреплении суверенитета (если ИГ сохранится и при других «если») и институтов будет диктовать и укрепление репрессивного аппарата, оторванного от общества в еще большей мере, чем в других арабских странах. Так что и с преодолением фрагментированности, очевидно, возникнут проблемы.
Наконец, что касается институтов, то пока что на территории ИГ наблюдается создание институтов власти при полном вакууме институтов гражданских. Такая ситуация может сохраняться исключительно на время войны.
И тем не менее, несмотря на всю очевидную слабость ИГ как проекта государствостроительства, нельзя отрицать того факта, что для определенного числа жителей государств региона он имеет особую привлекательность. По всей видимости, привлекательность эта связана прежде всего не с конфессиональным характером государства как таковым и, конечно, не с жестокостью его политики, а именно с упомянутой выше кажущейся аутентичностью ИГ
Описанная в настоящем исследовании картина выглядит неутешительной: помимо глубокого системного кризиса национальной государственности в арабском мире мы наблюдаем возникновение некоего альтернативного проекта, который, покоясь на религиозных основаниях, не вписывается в современную мирополитическую систему, угрожает существующим государствам и вместе с тем неспособен решить ключевые проблемы местных обществ.
Может ли этот пессимистический тренд в развитии арабского мира быть преодолен? Вероятно, в длительной перспективе, да.
Помимо военно-политического решения проблемы ИГ (в том числе через предложение привлекательной альтернативы иракским суннитам) и реконструкции государственности в сироиракской зоне это потребует от международного сообщества, региональных игроков и самих государств принятия ряда мер. Очевидно, что они должны быть направлены на укрепление и повышение эффективности институтов государственной власти и гражданского общества, гармонизацию элементов традиции и модерна в ценностно-политическом пространстве стран, поэтапную децентрализацию власти при укреплении национального суверенитета, отказ от ревизии существующих границ и т.д.
Очевидна, кроме того, необходимость принятия этих мер не только (и не столько) в уже ослабленных государствах, где главной проблемой становится вообще реконструкция институтов, а в тех странах, которые остаются пока что стабильными и могут претендовать на региональное лидерство.
Опубликовано в "Россия в глобальной политике": http://www.globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v-arabskom-mire-18043