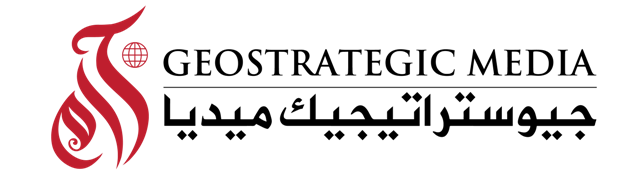Трибуна (68)
Салям аль Обейди. Горячие точки Ближнего Востока: возможен ли завтра мир.
Written by Administrator Салям Адиль Абдель-Мунем Аль-Обейди. Российский журналист-международник, уроженец Ирака. Выпускник физического факультета МГУ, переводчик, колумнист. Имеет ряд научных работ в области ядерной физики, участник-докладчик ряда научных конференций и симпозиумов по ядерной физики. В профессиональной журналистике с 1993 года. Работал в советских, российских и иностранных изданиях и СМИ. Был командирован во многие горячие точки постсоветского пространства, Балкан и Ближнего Востока. В настоящее время возглавляет региональное европейское бюро телекоммуникационной сети «Аль-Маядин» с корпунктами в Москве и Хельсинки. Удостоен ряда почетных грамот.
Салям Адиль Абдель-Мунем Аль-Обейди. Российский журналист-международник, уроженец Ирака. Выпускник физического факультета МГУ, переводчик, колумнист. Имеет ряд научных работ в области ядерной физики, участник-докладчик ряда научных конференций и симпозиумов по ядерной физики. В профессиональной журналистике с 1993 года. Работал в советских, российских и иностранных изданиях и СМИ. Был командирован во многие горячие точки постсоветского пространства, Балкан и Ближнего Востока. В настоящее время возглавляет региональное европейское бюро телекоммуникационной сети «Аль-Маядин» с корпунктами в Москве и Хельсинки. Удостоен ряда почетных грамот.
1) Очевидно, что нельзя обойтись без рассмотрения исторических и эпохальных периодов развития Ближнего Востока, начиная со второй половины девятнадцатого века, чтобы ответить на весьма нелегкий вопрос – возможен ли мир на Ближнем Востоке? Но, прежде всего, хочу сказать, что история, на мой взгляд, самая неточная и самая неблагодарная наука. Она весьма субъективна. Но я попытаюсь абстрагироваться, насколько это возможно.
Мы рассмотрим период начала конца Османской империи и те процессы, которые сопровождали и предваряли этот распад. Итак, к началу Первой Мировой войны, Османы уже потеряли контроль над большей частью своих владений, в том числе на арабском востоке. Это сопровождалось все большим проникновением двух западных держав - Великобритании и Франции, в этот регион. Параллельно разрасталась в Российской империи революционная ситуация, провоцируемая различными партиями, как левого, так и буржуазного толка. И как мы уже понимаем сегодня, все это поддерживалось извне, из Лондона и Париж, в большей степени против османов. Но и Германия не упускала случая, чтобы навредить Российской империи. Примечательно, что эти державы также поддерживали Младотурков, других модернистов и масонов в османской империи. Ещё за два десятка лет до этого в Базеле состоялся учредительный всемерный сионистский конгресс, который по настоянию Теодора Герцля принял декларацию о создании еврейского государства в Палестине – провинции, тогда ещё входившей в состав османской империи и населенной преимущественно арабами.
Хочу сделать здесь небольшую оговорку, возвращаясь к России. Тот же британский престол, не смотря на союз с русским царем, параллельно, но не вместе с Германией оказывал разностороннюю поддержку оппозиционным политическим силам в России для дестабилизации ситуации в Империи. Знаково, что известный нам по сериалу Владимира Хотиненко «демон революции» Александр Львович Парвус, он же Израиль Лазаревич Гельфанд, роль которого сыграл известный актёр и режиссёр Федор Бондарчук, отличился как в Российской, так и в Османской империях.
Подводя промежуточный итог вышесказанному, следует отметить, что в результате заговора западных держав было покончено с двумя вышеназванными империями сразу. Россия была охвачена революцией и выведена из Первой Мировой войны, а Османской империи было нанесено унизительное поражение с дальнейшим расчленением. И в имплементации тайного соглашения, подписанного в 1916 году между британским дипломатом Сайксом и его французским коллегой Пико арабский восток и Малая Азия были поделены на сферы влияния между европейскими державами. В добавок к этому, британцы дали обещания сионистским лидерам, в знак благодарности за финансирование военных компаний в Европе, что поспособствуют созданию еврейского государства на территории Палестины. Это обещание вошло в историю под названием «декларация Бальфура 1917 года», по имени тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура, который в письме Лорду Ротшильду пообещал всякую помощь Правительства его Величества в деле создания национального государства для евреев в Палестине.
Таким образом, тогда было положено начало всем современным бедам региона. Это и создание неоднородных в этническом и конфессиональном признаках государств в регионе, и начертание спорных границ между ними и, конечно, внедрение чужеродного организма, т.е. Израиля, в арабской среде. Вот собственно, основные причины по которым конструкция регионоустройства оказалась не прочной и не способной дожить до своего столетия.
Разумеется, это конструкция начала рушиться и из-за внешнего натиска и из-за внутренних противоречий и накопления социально-экономических, общественно-политических и культурно-цивилизационных проблем.
2) Итак, позади целый век. До этого народы арабского Востока преимущественно жили в едином наднациональном государстве. В любом случае, в небольшом количестве государств – сателлитов Османской империи со сформировавшимися системами власти. И вдруг, им предлагается разъехаться по разным «квартирам», причём, образно говоря, без ремонта, без согласования с соседями, без учета совместимости к общему проживанию и деля эти «квартиры» не равномерно и справедливо, а с конфликтным потенциалом. Это касается и территории и природных ресурсов и выхода к морю. Самый яркий пример Ирак. Богатейшая страна с древнейшей историей. А как раскроили её границы! Откололи от неё Кувейт, лишив тем самым полноценного выхода к Персидскому заливу, затрудняя тем самым экспорт нефти. Что в итоге привело к вторжению Ирака в Кувейт и к катастрофическим последствиям для всего региона. В результате, сегодня это самая конфликтная страна региона.
Эту схему можно экстраполировать на другие государства региона: Алжир и Марокко, Египет и Судан и так далее. Яблоки раздора повсюду. Но самый большой конфликтный потенциал, конечно, в неурегулированности арабо-израильских отношений.
Хочу, однако, вернуться к тому, с чего начал и напомнить, что когда арабы ушли из Османской империи, им предложили идеологию единого национального государства. Параллельно с этим, некоторые западные державы, в первую очередь Великобритания, стали закладывать основу для политического ислама, с тем, чтобы бороться с проникновением коммунистической идеологии в регион. В результате, к началу Второй Мировой войны в регионе соперничали три основные идеологии: Панарабизм, Коммунизм и политический ислам. А после войны и победы СССР над гитлеровской Германией активизировались национально-освободительные движения в регионе, начался период создания независимых арабских государств. Некоторые из них ориентировались на социалистический лагерь, крепла национальная буржуазия, легально стали действовать партии левого социалистического и коммунистического толка. В опале оказались религиозные партии, на которые делал ставку Запад. А с созданием Израиля в 1947 году, идея освобождения Палестины все больше и больше стала объединяющей для арабов. Но интересы западных держав, да и СССР, который наивно полагал, что Израиль станет плацдармом для экспансии социализма в регионе, эти интересы не предусматривали прекращения существования еврейского государства в регионе, а как раз наоборот. В результате, не было позволено арабам одержать ни одной полноценной победы над Израилем, который в ходе этой борьбы лишь расширялся, захватывая и аннексируя все новые и новые территории, воплощая «миф о великом Израиле от Нила до Евфрата».
Я почему называю историю псевдонаукой? Именно потому, что многое воплощается в жизнь в сегодняшним мире, основываясь на мифах, легендах и вымыслах. Всему этому все равно придёт конец, если когда-нибудь наступит конец самой истории, выражаясь словами японского философа Фукуямы.
Итак, мы уже понимаем, что в фундамент регионоустройства Ближнего Востока и Северной Африке были заложены мины замедленного действия, которые одна за другой взрываются на протяжении многих лет. И как уже было сказано, этому поспособствовали как внутренние, так и внешние факторы. Именно поэтому, мы увидели, так называемую, арабскую весну и до неё множество переворотов и приграничных конфликтов между странами региона. И конечно, внутренние конфликты. Например с курдами в Ираке, с Полисарио в западной Сахаре, на которую претендует Марокко, между Севером и Югом Судана и так далее.
Но конечно, отдельная тема страны Персидского залива. Куда до последнего времени, США, перенявшие знамя мирового неоимпериализма после Второй Мировой войны, никого без специального разрешения не пускают. Но и это тоже начинает меняться.
Итак, сегодня мы имеем в регионе очень нестабильную ситуацию из которой надо выбираться. И что же это за ситуация? После распада СССР западный мир, возглавляемый США, везде и вовсю диктовал миру, в том числе нашему региону, свои правила. Наверное, все помним, выдвинутую администрацией Белого дома в девяностые годы, идею большого Ближнего Востока. Далее, при Обаме, также что-то пытались сделать с регионом. Был взят курс на назначение Турции лидером, так скажем, просвещенного светского исламского мира. При нем то, т.е. при Обаме, и развернулась арабская весна, в которую Турция втянулась «по уши». К чему все это привело? Мы знаем на примере Ливии и Сирии. Вот в настоящее время и Трамп предлагает свою инициативу так называемой «сделки века».
Все старые и современные модели предусматривают новый передел Ближнего Востока с изменением границ. Но это лишь обострит, и без того, взрывоопасную ситуацию в регионе. И надо сказать, что появление военной силы России на поле боя очередного конфликта, то есть в Сирии, остужает многие горячие головы. Конечно, Россия не преследует идеологических целей в регионе. Она движима собственными экономическими интересами и геополитическими целями. Но тем не менее, это помогает по сей день избегать разрастания противоречия между Ираном со своими сторонниками, с одной стороны, и США, Израилем и Саудовской Аравии, с другой стороны, в открытый военный конфликт. И хотя в последнее время наметились какие-то тенденции по снижению напряжённости на этом треке, но новые провокационные заявления Трампа относительно возможности признания израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, вновь подливают масло в огонь и льют воду на иранскую мельницу, что может подорвать вышеуказанные усилия по стабилизации в Сирии.
3) Теперь попробуем построить возможные сценарии развития ситуации в регионе. Как уже упоминалось, самый конфликтный потенциал сохраняется вокруг Ирана. Это ситуация и в Йемене, и в Бахрейне, и в Сирии, и в Ливане, и в Палестине, да и в Афганистане также. Вполне очевидно, что ни России, ни Китаю, да и ни Турции не выгодна расправа с Ираном. Поэтому эти страны будут делать все возможное, чтобы не допустить военного столкновения США и их союзников с Иранов. Однако, сохраняется вероятность молниеносного военного удара по Ирану для ограничения его военно-политического потенциала и провоцирования внутриполитического обострения. Но есть опасения, что Тегеран сможет сильно ударить в ответ. А это в свою очередь может привести к военному конфликту на границе Сирии и Ливана с Израилем. В итоге могут быть втянуты в военный конфликт крупные мировые державы, которые уже сосредоточили большие силы в регионе. Но по всей видимости, США и их союзники пока не выработали свою окончательную стратегию на Ближнем Востоке. Ведь не все знают ещё, что из себя представляет «сделка века» Трампа. Единственное, что просочилось в прессу о ней, после признания Иерусалима столицей Израиля, это то, что она предусматривает обмен территориями между палестинцами и израильтянами, и созданием новых образований с отводом земель из соседних стран для заселения палестинцев. Мне кажется, это нереалистично. Палестинцы более 70 лет жили в лагерях для беженцев, подвергались гонениям, издевательствам и лишениям, но не смирились с оккупацией. А что касается Израиля, то это образование, созданное так называемыми репатриантами, а по сути колонизаторами, не может вечно существовать без конфликтного потенциала, который мобилизует поселенцев перед внушаемым страхом быть уничтоженными и который привлекает средства еврейских организаций. Израилю постоянно нужен враг, угрожающий его безопасности, для оправдания тех финансовых вливаний из вне, благодаря которым он продолжает существовать. Для этого нужен этот новый кризис вокруг Голанских высот. Да и Трампу не помешает поддержка сионистских финансовых кругов, которые играют одну из решающих ролей в американских выборах. И к сожалению, прочного мира на Ближнем Востоке не видать в ближайшей перспективе, но в передышке все стороны нуждаются.
Василий Кузнецов: "Ситуация в Алжире на "арабскую весну" не похожа"
Written by Vasiliy Kuznetsov - Василий Александрович, в СМИ много рассуждений по поводу Алжира, все пророчат вторую арабскую весну. Много злобного сарказма в отношении Абдельазиза Бутефлики. Что на самом деле сейчас происходит в Алжире?
- Василий Александрович, в СМИ много рассуждений по поводу Алжира, все пророчат вторую арабскую весну. Много злобного сарказма в отношении Абдельазиза Бутефлики. Что на самом деле сейчас происходит в Алжире?
- В Алжире происходят протесты. Они связаны с попыткой выдвижения кандидатуры Бутефлики на пятый президентский мандант. Конечно, в условиях плохого самочувствия президента эта попытка была воспринята резко негативно населением. Больше четырех недель продолжаются массовые акции протестов. Некоторые из них, например, 8-го марта, стали самыми масштабными за всю историю Алжира. В понедельник 11 марта вечером от имени Бутефлики было оглашено очередное письмо с предложением организации национальной конференции и переноса выборов до завершения её работы в конце 2019 г. Конференция должна будет создать законодательную основу для создания Второй Алжирской Республики. Некая глубокая политическая конституционная реформа, после чего новая конституция будет принята на референдуме, будут организованы выборы. Общество восприняло предложение как попытку фактического продления полномочий президента. Протесты продолжились.
Есть попытки сравнения с арабской весной и есть, как верно заметили, некоторое злорадство по поводу Бутефлики, которое мне не близко. Президент тяжело болен, никому не известно, насколько желание оставаться у власти – его личный выбор, а насколько – решение его окружения. Вторая версия более правдоподобна. Кроме того, стоит помнить, что Абдельазиз Бутефлика –человек, который сделал для Алжира очень много. Он герой войны за независимость, человек, который возглавлял много лет внешнюю политику Алжира, крупный дипломат. Человек, который занимал должность президента Генеральной Ассамблеи ООН. Человек, который пришёл в 1999 году к власти и фактически стал тем лидером, который прекратил гражданское противостояние в Алжире. То есть Алжир ему многим обязан.
Другой вопрос, что существует усталость от него, существует усталость от этой элиты. Ситуация с арабской весной чем-то схожа, однако говорить, что арабская весна запоздала в Алжире на 8 лет нельзя. В чем ситуация похожа. В том, что есть идея усталости от пожилого лидера, который долго правит. Есть массовые протесты мирного характера. Есть лозунги против коррупции. На этом всё. Более того, если присмотреться, Алжир в этом не особо отличается не только от так называемых стран Арабского пробуждения, но и от любых других стран тоже. Ведь усталость от элит, острое чувство социальной несправедливости, выражающееся в аникоррупционных лозунгах, стремление изменить все и сразу без какой-либо зрелой программы – все это общие тенденции современного мира. Они одинаковые – в США с Трампом, во Франции с желтыми жилетами, в России с протестными движениями и т.д.
В чем ситуация на Арабскую весну не похожа. Во-первых, гораздо меньше выражена социально-экономическая повестка дня, связанная с безработицей, которая была очень ярко выражена в протестах 2011 года. Во-вторых, нынешние протесты происходят в условиях перед выборами, и в этом плане сама технология протеста несколько иная. В-третьих, самое главное, протесты проходят в ситуации уже после Арабской весны. Когда и алжирское общество, и алжирские политические элиты усвоили ее уроки. Мы видим очень большую осторожность, которую проявляют и общество, и элита в ходе протестов. С одной стороны, лозунги не радикализуются. Я напомню, что события арабской весны и в Тунисе, и в Египте заняли примерно месяц. С другой стороны, власть не спешит жестко отвечать на протест, она старается найти какие-то компромиссы. Также, очевидно отсутствие консолидации как в стане протестующих, так и в лагере власти. Власть на сегодняшний день не способна пока что консолидироваться и выступить единым фронтом против протестов. Более того есть признаки раскола внутри элит. Часть элиты переходят на сторону протестующих. С другой стороны, очевидно, что и среди оппозиции нет консолидации, нет общего лидера, нет общих программ.
- Но, как и в случае протестов «арабской весны» протесты не имеют ярко выраженного лидера!
Это нормально. На первых этапах любых массовых протестов почти никогда не бывает ярко выраженных лидеров. Ни в Иране 1978-79 гг., ни в России 1917 года. Лидеры появляются в революционном процессе, если это революция. Но в Алжире может и не случиться революции. В принципе протесты могут закончиться неким компромиссом, уступками со стороны власти. И это много более вероятно.
- А можно ли говорить о том, что есть внешнее влияние, какие-то внешние факторы, влияющие на протесты? Были сделаны заявления и со стороны США и Франции…
Со стороны Америки была объявлена официальная позиция, что она поддерживает право алжирского народа на мирный протест. Это абсолютно нормальный американский дискурс. Даже алжирское правительство поддерживает право алжирского народа на мирный протест.
Что касается Франции, то Франция очень долго старалась избегать каких-либо комментариев по поводу алжирской проблематики, потому что любые комментарии могут иметь плачевные последствия, учитывая сложность в истории двусторонних отношений. Алжирцы очень ревностно относятся к своему суверенитету, очень ревностно относятся к собственной независимости и невмешательству со стороны внешних игроков. Потом было сделано заявление министром иностранных дел в поддержку Бутефлики. Оно вызвало очень резкую реакцию среди протестующих, и Э. Макрон попытался смягчить его во время своего визита в Джибути.
-Имеет ли политическая система Алжира у себя в арсенале фигуру, которая могла бы стать компромиссной?
В таких ситуациях очень сложно говорить об этом, потому что популярность тех лидеров оппозиции, которые есть, очень ограничена. Сегодня сложно найти такую фигуру, которая всех объединит. Можно попробовать назвать фигуру, которая возглавит какие-то органы в переходный период власти — это Брахими. Дипломат, который много лет работал в ООН. Он не лидер протестующих, а скорее профессиональный дипломат, который мог бы заняться процессом переговоров между конфликтующими сторонами. Однако его часто критикуют за излишнюю близость к Бутефлики – считается, что он один из немногих близких личных друзей президента. Кроме того, он давно почти не живет в Алжире. Проводя больше времени во Франции. Отсутствие глубоких связей с более молодыми поколениями алжирцев, как из элиты, так и из протестующих, могут рассматриваться и как слабая, и как сильная его стороны.
- Василий Александрович, а какое дальнейшее развитие ситуации в Алжире на Ваш взгляд?
Очень сложно сейчас говорить о прогнозах, очень горячая ситуация, очень быстро всё развивается. Но я думаю, что есть некий элемент торга между властью и протестующими. Власть, как это часто бывает, запаздывает в своих предложениях. И то, что она предлагает уже протестующих не в полной мере устраивает. В то же время сказать, что же сейчас может удовлетворить протестующих очень сложно. Я думаю, что предложение Бутефлики в принципе с некоторыми поправками они могут быть реализованы. Поправки могу быть связаны с изменением полномочий правительства, президента. С расширением полномочий некой национальной конференции или комиссии, которая будет создана по Туниской модели. Тогда комиссия возьмёт на себя частично функцию законодательной власти на переходный период. Кроме того, надо сказать, что алжирская политическая модель, система очень сложная. Гибридная политическая система, где развита многопартийность, политические организации очень активны, поэтому их участие в переходном периоде во власти могут позитивно повлиять.
Фото: Washington Post
 Развитие ситуации вокруг сирийского кризиса преподносит нам все новые неожиданности. Внимание аналитиков сегодня все больше привлекает «мутирующая» конфигурация отношений между глобальными и региональными игроками вокруг сирийского конфликта, главным катализатором чего выступает ситуация в Идлибе. Для системы этих отношений всегда была характерна волатильность, но динамика происходящих сейчас изменений, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, гораздо выше, чем прежде. Коснемся лишь некоторых ключевых аспектов этого процесса.
Развитие ситуации вокруг сирийского кризиса преподносит нам все новые неожиданности. Внимание аналитиков сегодня все больше привлекает «мутирующая» конфигурация отношений между глобальными и региональными игроками вокруг сирийского конфликта, главным катализатором чего выступает ситуация в Идлибе. Для системы этих отношений всегда была характерна волатильность, но динамика происходящих сейчас изменений, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, гораздо выше, чем прежде. Коснемся лишь некоторых ключевых аспектов этого процесса.
Посмотрим на ситуацию с «курдским фактором». Хотя отношения между Россией и сирийскими курдами (как и курдами вообще) носят скрепленный всей их историей дружественный характер, тон оценок, которые дают их действиям в эти дни эксперты, выступающие в российских СМИ, нередко носят критический характер. Этими экспертами не учитываются не только наши давние симпатии к курдскому национальному движению, но даже и то обстоятельство, что курды сыграли важнейшую роль в борьбе с ИГИЛ/ДАИШ (запрещенным в РФ) и другими террористическими группировками, действующими в Сирии. Такая позиция (причем некоторые из экспертов, часто появляющиеся на экранах телеканалов, чудесным образом сменили личину защитников курдских интересов, еще недавно экспрессивно призывавших к немедленному вооружению Россией отрядов YPG, на образ их критиков) связана, в первую очередь, со все более тесным сотрудничеством курдов с вторгнувшимися в Сирию американцами, а также их неспособностью наладить конструктивные отношения с Дамаском. Конечно, сирийские власти тоже несут долю ответственности за то, что переговоры с курдами пока не привели к положительному результату. Правда, говорить о провале этих трудных переговоров преждевременно, тем более с учетом быстро меняющейся обстановки. Но при всем этом следует учитывать, что для России приоритетной всегда является ориентация на легитимных государственных игроков, тем более таких дружественных, как Сирия.
Теперь о США. Самым существенным поворотом в позиции Вашингтона явился фактический отход от взаимопонимания, достигнутого в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным. Американская администрация демонстративно поставила на нем крест. По мнению британского эксперта Аластера Крука, целями новой линии Вашингтона в отношении сирийского конфликта, олицетворением которой стал новый американский представитель по Сирии Джеймс Джеффри, являются: вытеснение из страны Ирана; нанесение сокрушающего стратегического удара по ДАИШ в дополнение к удушающей его экономику экономической «диете»; обеспечение такого политического транзита, в ходе которого будет смещен президент Асад, и, в первую очередь, недопущение даже видимости стратегической слабости США.
С Турцией тоже не все просто. У наблюдателей — так это или не так — создается впечатление, что Анкара начала метаться между Москвой и Вашингтоном в отчаянных попытках отстоять свою линию в Сирии. Это хорошо продемонстрировали результаты российско-турецко-иранского саммита в Тегеране. С одной стороны, Эрдогану вроде бы удалось добиться временной постановки планирующегося масштабного наступления сирийской армии при поддержке России и Ирана на Идлиб на положение стэнд-бай, с другой — Анкара включила «Хай’ат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», она же «аль-Каида») в список террористических организаций, чего ранее делать не хотела. Вероятно, доминирование ХТШ в Идлибе уже не позволяет Анкаре использовать эту организацию для поддержания важнейшего для Турции имиджа защитницы суннитского мира, и если не отмежеваться от нее самым решительным образом, этому имиджу может быть нанесен серьезный ущерб. В то же время Эрдоган сделал все, чтобы эта продиктованная ее национальными интересами уступка партнерам по «тройке стран-гарантов» не могла интерпретироваться как шаг к сближению с сирийским правительством и отход от поддержки сирийской оппозиции. Отсюда демонстративно публичные, резкие заявления турецкого президента с призывами «спасти» население Идлиба от наступления сирийской армии. Так и вспоминается горьковское «С кем вы, мастера культуры?» (кстати, из ответа писателя американским журналистам). При этом Россия и Турция остаются очень важными для друг друга экономическими и политическими партнерами.
Но мастер внешнеполитического маневрирования, которое не мешает ему проявлять твердость в отстаивании своих позиций по стратегическим вопросам, Эрдоган не сможет предотвратить сирийское наступление в провинции. Пауза не будет слишком долгой. Отвечая на атаки боевиков, российские ВВС уже наносят спорадические воздушные удары по их позициям в Идлибе. Турецкий лидер теперь готов участвовать в уничтожении боевиков ХТШ, только, по справедливому замечанию Крука, джихадисты в Идлибе перемешались с местным населением, как это было в Ракке, что не помешало США, Великобритании и Франции в 2017 г. наносить безжалостно сильные бомбово-артиллерийские удары по городу для уничтожения ИГИЛ, когда «число артиллерийских снарядов, выпущенных по городу было больше, чем в любом другом месте после вьетнамской войны». А если Анкара и захочет отделить джихадистов от мирных жителей и тех «умеренных» вооруженных группировок во главе с «Братьями-мусульманами», которые спонсируются Турцией (чего от него ожидают партнеры по тройке стран-гарантов), сумеет ли она сделать это? Возможно ли будет избежать повторения ужасов Ракки и потерь среди мирного населения? Сумеет ли Турция не допустить ситуации, когда через ее границы хлынут новые потоки сирийских беженцев, в дополнение к тем 3,5 млн, которые уже находятся на турецкой территории? А куда двинут уцелевшие джихадисты (вряд ли все будут уничтожены или захотят сложить оружие)? Если они вольются в ряды тех самых «умеренных» вооруженных группировок, примет ли их Анкара под свое крыло?
Президент Трамп и его военно-политическое окружение хорошо понимают, что Дамаск, Москва и Тегеран нацелены на то, чтобы завершить очищение территории Сирии от присутствия террористов. Ведь даже американский спецпосланник по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк говорит, что Идлиб превратился в «самый большой отстойник для аль-Каиды со времени 11 сентября». Необходимо избавиться от тех, кто продолжает регулярно посылать на позиции не только сирийской армии, но и российских военных, современные беспилотники с бомбовым грузом, запчасти для которых поставляются «третьими странами». Понятно, что этому рано или поздно будет положен конец. Однако американский лидер продолжает угрожать Дамаску сокрушительными массированными ударами в том случае, если Башар Асад «развяжет бойню в Идлибе». Лживые измышления о якобы готовящемся использовании сирийской армией химического оружия при наступлении на Идлиб призваны лишь замаскировать готовящуюся провокацию вооруженных группировок с химоружием.
Если попытаться непредвзято посмотреть на вопрос о возможном использовании химоружия в Идлибе, в чем сирийские проправительственные силы и оппозиционные группировки обвиняют друг друга, необходимо отделить военную сторону этого вопроса от политической. В военном плане использование химоружия (даже с самой циничной точки зрения) для Асада не имеет никакого смысла. Во-первых, у него есть гораздо более эффективное для нанесения поражения террористам оружие. Во-вторых, он действует с позиций победителя, который уже взял под контроль большую часть территории страны. В-третьих, от химоружия (тем более от хлорина, о котором идет речь) легко защититься, для чего вооруженным отрядам оппозиции должны быть поставлены соответствующие средства химзащиты. Что не представляет большой проблемы для боевиков, у которых нет недостатка в спонсорах. И боевикам использование химоружия равным образом никак не может обеспечить военной победы над сирийской армией и ее союзниками.
Другое дело — политическая сторона вопроса. Для Асада бессмысленное в военном отношении применение химоружия равно самоубийству: скрыть его невозможно, а неизбежный удар возмездия сведет результаты успешной операции на нет, не говоря уж о непоправимом репутационном ущербе. Ничем не оправданный, бессмысленный риск! Но не для оппозиционных вооруженных группировок. Для них применение химоружия, которое при поддержке западных спецслужб можно с помощью трюка приписать Дамаску, — единственная возможность избежать поражения, втянув в войну с сирийским правительством американцев. Когда я излагал свои мысли некоторым американским коллегам, они не сумели мне возразить. Думаю, что эти аргументы более убедительны, чем то, что у Дамаска нет химического оружия. Да, его запасы были проверенно вывезены и уничтожены. Но хлор чисто теоретически можно легко произвести, если это кому-то необходимо. Только это противоречит интересам Дамаска и элементарному здравому смыслу. А для радикал-исламистов и джихадистов, как было здесь показано, это как раз имеет смысл. В Идлибе их еще остаются десятки тысяч (директор Института исследования национальной безопасности Израиля и бывший начальник военной разведки страны генерал Амос Ядлин называет невероятную цифру окопавшихся тем боевиков одной только ХТШ, или «Нусры — аль-Каиды» в 100 тысяч человек!). Среди них огромная масса выходцев из различных стран мира. А как пишет один из авторов в блоге, редактором которого является бывший сотрудник военной разведки и специальных сил американской армии полковник Патрик Ланг: «У меня есть еще работающие в правительстве друзья, которые надеялись, что Трамп был серьезен, говоря о необходимости вытащить США из сирийского болота. Они надеялись на это в прошлом году. Но не сейчас. Сейчас они находятся в состоянии депрессии и беспокойства». Этот же автор называет «грязным секретом (хотя это и не секрет)» то, что американцы, британцы, саудовцы, катарцы и турки финансировали, вооружали и тренировали мятежников, в том числе и радикал-исламистов, связанных с «аль-Каидой».
К спонсорам вооруженного мятежа в Сирии можно добавить и Израиль. Каждый из спонсоров антиправительственных группировок поддерживает финансами и оружием лишь некоторые из них, «свои». Объемы этой поддержки разнятся. О роли последнего спонсора вплоть до недавнего времени было мало известно, да и сегодня известно не все. Израиль снабжал оружием, вероятно, лишь те группы, которые действуют на юго-западе Сирии. На слуху лишь две из них. Это «Фурсан аль-Джулан» и «Лива Умар бин аль-Хаттаб». Первая из них базируется в городе Джубата аль-Хашаб в районе Кунейтры, а вторая в городе Бейт Джинн, граничащим с горой Хермон. По некоторым данным, оружие поставлялось оппозиционерам из Израиля уже с 2013 г. По утверждению израильского эксперта Элизабет Цурков, Израилю долго удавалось держать свое сотрудничество с этими отрядами, как и сам факт оказания сирийским оппозиционерам военной помощи, в секрете. Поставлялись, в первую очередь, автоматические винтовки американского производства М16, но потом Израиль стал давать боевикам оружие не американское, а якобы все то, что поставлялось Ираном в Ливан для «Хизбаллы» и было перехвачено израильтянами.
То, что Израиль помогает вооруженным, в том числе исламистским, группировкам, не является чем-то необычным для этой страны. Как недавно заявил в программе телеканала ТВЦ бывший директор одной из израильских спецслужб — «Натива» Яков Кедми, Израиль в прошлом сам создал вышедшее из «Братьев-мусульман» ХАМАС для того, чтобы ослабить национальное палестинское движение во главе с «Фатх», выдвинув в качестве альтернативы движение религиозное. ХАМАС, которое он считает террористической организацией.
2017 г. засвидетельствовал резкий рост военной помощи, когда политика Израиля в отношении Сирии стала более агрессивной. Наносились удары по сирийским позициям, нацеленные на те из них, где присутствовали иранцы. Как сказал в беседе один из видных израильских аналитиков, в Израиле понимали, что Москва лишь во имя более важных стратегических интересов «терпела» эти удары, хотя и высказывала свое недовольство. Более того, усилия российских дипломатов и военных по обеспечению отвода иранских советников на глубину до 80 км от израильской границы и размещение в этом районе пяти батальонов российской военной полиции были с удовлетворением встречены в Израиле. Но в Израиле также понимают, что если он продолжит наносить военные удары по Сирии, это в новой ситуации может негативно повлиять на плодотворно развивающиеся российско-израильские отношения: терпение Москвы не безгранично.
Все сказанное не исчерпывает всех происшедших в последнее время существенных изменений и поворотов в обстановке вокруг сирийского кризиса. Как бы то ни было, в ближайшее время мы, возможно, станем свидетелями еще более неожиданных событий.
Статья опубликована в РСМД: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/siriyskie-syurprizy/
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki, Мечеть Омейядов, Дамаск, Сирия, 11 июня 2018 г.
 Статья Шехаба и Марии Аль-Макахлех
Статья Шехаба и Марии Аль-Макахлех
Идея арабского национализма потерпела крах и развеялась по ветру в 1980-е годы. Тогда арабы не ухватились за возможность единства, поэтому сейчас, в эпоху открытости, когда мир стал «одной деревней», они не могут выступать единым фронтом. Конечно, истинной причиной этому стало внешнее вмешательство во внутренние дела и заинтересованность некоторых арабских лидеров в отсутствии единства. И есть мнение, что уже ничто не сможет снова объединить арабов.
С 70-х годов прошлого века мир не видел такого масштабного использования религиозных тем в политической борьбе, развёртывания армий и манипулирования СМИ. Всё это значительно усложнило понимание и без того запутанной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также затруднило принятие решений. Ключевой вопрос заключается в поиске точек соприкосновения между политикой и догматической религией.
Идеологические конфликты, которые и так уже были подогреты неточным и ошибочным освещением событий в СМИ и использованием примитивных аналитических инструментов, стали ещё более разгораться в результате попыток некоторых правителей политизировать противоречия, чтобы показаться спасителем в битве с несуществующим противником, неким снежным человеком, который существует только в их собственном воображении, и сохранить свой контроль над ситуацией. Это характерно не только для Ближнего Востока. Это направление, в котором движется весь мир – помимо распрей между суннитами и шиитами существуют конфликты между капиталистами и социалистами, религиозными консерваторами и сторонниками светского общества, православными христианами и католиками/протестантами и представителями других течений христианства.
Густой туман и хаос, окутавшие Ближний Восток, маскируют реальные идеологические конфликты, развернувшиеся вокруг политических и экономических интересов, а не религиозных тем. На самом деле оси и союзы создаются на основе политики и экономики, а идеологии, конечно же, становятся козлом отпущения, их используют правители ближневосточных и других стран для того, чтобы удовлетворить свои потребности.
Рядовой последователь идеологии, или верующий, не знает, являются ли идеологические конфликты настоящей причиной ведущихся войн, действительно ли они нужны для достижения задач какого-либо тщательно проработанного плана. Поэтому люди вынуждены черпать силы в своём идеологическом наследии, чтобы защититься в войне с необозначенными фронтами, кровопролитие в которой ведётся под наблюдением мировых властителей, действующих через представителей в лице других региональных держав. Так называемая «арабская весна» и волна искусственного хаоса в арабских и мусульманских странах стали частью этой игры.
Крах мечты националистов
В прошлом страны Ближнего Востока и Северной Африки, получавшие поддержку со стороны Советского Союза, старались избегать национальных культурных и идеологических проектов с яркими лозунгами. Это привело к возникновению идеологического вакуума, «политического болота». Однако после распада Советского Союза в начале 90-х годов XX века ситуация изменилась, что нанесло удар по всем националистическим партиям региона.
А исторически провал националистических партий обусловлен тем, что Сирии и Ираку не удалось объединиться в начале 1980-х годов, несмотря на то, что для этого были идеальные условия, так как в соседствующих странах господствовала одна и та же партия Баас. После этого во всем регионе поняли, что ничто не сможет снова объединить арабов. Конечно, истинной причиной этому стало внешнее вмешательство в дела арабов и заинтересованность некоторых арабских лидеров в отсутствии единства. Идея арабского национализма потерпела крах и развеялась по ветру. Тогда арабы не ухватились за возможность единства, поэтому сейчас, в эпоху открытости, когда мир стал «одной деревней», они не могут выступать единым фронтом.
Исламистские популистские партии, как суннитские, так и шиитские, положили начало разгулу политического оппортунизма и макиавеллианского фаворитизма с целью разрушить доверие последователей обоих течений к настоящему исламу. Это также способствовало усилению разрыва между этими течениями, что в будущем повлечёт за собой многолетние войны. План вбить клин между мусульманами был разработан разведывательными службами и на это выделялись огромные средства. После краха коммунизма в Советском Союзе в мире образовался некоторый вакуум, который нужно было заполнить воображаемым врагом – исламистами. Такой воображаемый противник помогает решить две проблемы: во-первых, ликвидировать оставшиеся очаги коммунизма, а во-вторых, разрушить образ истинного ислама, демонизируя действия мусульман, в том числе обращаясь к теме джихада.
Испытывая жажду власти, большинство исламских движений отвернулось от своих традиционных сторонников и спонсоров. Конфликты, происходящие в регионе, имеют хаотический, а не системный характер. Такие националистические партии или исламистские секты стремятся политически и догматически обозначить свою идентичность – как арабских националистов или исламистов. Это может привести к возникновению новых сетевых образований на периферии и создать раскол в существующих системах власти при низкой религиозной культуре и слабости общества.
Захват власти или её распределение требуют наличия формулы отношений и связей. Лидеры ближневосточных стран боятся установления власти как националистических, так и исламистских партий. Как только «Братья-мусульмане» или националисты одерживают победу на выборах в одной из стран региона, они сразу же становятся источником угрозы её режиму. Также некоторые правители используют отсутствие идентичности в арабских сообществах в своих интересах – для усиления власти и распространения влияния.
Весь арабский мир сейчас находится в тяжёлом положении – как обычные граждане, так и интеллектуальная и политическая элита, как сторонники существующих режимов, так и оппозиционеры – вне зависимости от их политических и идеологических взглядов. Все осознают ту трагическую ситуацию, которую переживает арабский народ, который однажды был сильной цивилизацией со множеством достижений в образовании, культуре и науке.
Ухудшение положения в арабских странах стало побочным продуктом колониализма, однако, самые тяжёлые последствия для арабов принесли политические ошибки, которые были обусловлены внешним влиянием – попытками доминировать, заговорами и так далее.
Сознание является отражением реальности, следовательно – между мыслями и реалиями существует диалектическая связь. Арабы мыслят категориями заговоров и интриг. Поэтому чтобы понять проблемы арабского мира, нужно уяснить, что арабы уверены в том, что они жертвы войн, развязанных другими нациями.
Статья опубликована Клубом Валдай: http://valdaiclub.com/a/highlights/ideological-struggle-in-the-middle-east/
Фото: Khalil Hamra/AP
 Складывающаяся в настоящее время ситуация в Иордании возникла не на пустом месте. Протесты, привлекшие внимание мировых СМИ, начались не сейчас, а сотрясают Иорданию, почти не переставая, с начала года и постепенно наращивают обороты. Сейчас страна столкнулась с сильнейшими народными волнениями за последние двадцать лет. Почему и как так вышло?
Складывающаяся в настоящее время ситуация в Иордании возникла не на пустом месте. Протесты, привлекшие внимание мировых СМИ, начались не сейчас, а сотрясают Иорданию, почти не переставая, с начала года и постепенно наращивают обороты. Сейчас страна столкнулась с сильнейшими народными волнениями за последние двадцать лет. Почему и как так вышло?
Иордания традиционно воспринимается как своего рода оазис стабильности и относительного процветания на Ближнем Востоке. Несмотря на протяженную границу с Сирией и Ираком, силам безопасности практически без осечек удается пресекать террористическую активность, обеспечивать безопасность подданных и государственных границ. Достаточно светские король и королева формируют позитивный образ страны за рубежом. Активно развивается туризм. Вроде бы все хорошо, однако реальная ситуация внутри страны очень далека от того, чтобы говорить о ней в позитивном ключе.
Иордания изначально существует «не благодаря, а вопреки». Не будучи «запланированным» государственным образованием изначально, возникшая, по сути, в результате предательства англичанами и французами лидеров арабского восстания, созданная как механизм сохранения британского влияния в регионе, Иордания все же смогла построить собственную государственность и закрепиться на карте мира. Ее расположение — в «обрамлении» Палестины, Израиля, Египта, Саудовской Аравии и Ирака — обеспечило ее геополитическую роль и значимость в регионе, в особенности в контексте арабо-израильского конфликта. Однако её небольшие размеры, немногочисленное население и ограниченность природных ресурсов не позволяют стране динамично развиваться. Арабо-израильский конфликт для Иордании — это не только внешнеполитическая проблема, но и внутренняя. Палестинские беженцы создали дисбаланс в стране, который она преодолевает уже на протяжении 70 лет. Многолетний и кровопролитный сирийский конфликт, в свою очередь, усугубил давление на экономику, поскольку страна вынуждена принять 1,3 млн сирийцев(по данным иорданских властей, официально зарегистрированных ООН 666 113 беженцев), бежавших от войны.
Ее расположение — в «обрамлении» Палестины, Израиля, Египта, Саудовской Аравии и Ирака — обеспечило ее геополитическую роль и значимость в регионе, в особенности в контексте арабо-израильского конфликта.
Но основная проблема заключается не только и не столько в этом. Проблемы в стране копились годами, но правительство не предпринимало каких-либо реальных шагов для их разрешения. Спусковым механизмом для протестов, которые происходят в последний месяц, стали резко вводимые меры жесткой экономии.
Причинами этих мер стал разработанный и одобренный для Иордании в 2016 г. МВФ план проведения структурных реформ, основная цель которых — сокращение к 2021 г. государственного долга страны с 96% от ВВП до 77%. МВФ выделил 723 млн долл. на три года на поддержание структурных реформ. Однако реформы и предпринимаемые меры не встретили энтузиазма среди населения. Акции протеста проходили еще в 2017 г. в Солте, Караке, Мадабе на фоне роста цен на хлеб.
Постепенно к экономическим требованиям добавились осуждение нормализации отношений с «государством-оккупантом».
Здесь надо понимать, что для любой арабской семьи хлеб — это ежедневная насущная необходимость. Для малоимущих семей тем более, поскольку хлеб фактически ключевой продукт питания. Хлеба едят много, поэтому рост цен на хлеб всегда и неминуемо остро сказывается на кошельках семей и на планировании семейного бюджета.
Первые народные выступления в начале 2018 г. начались в этих же городах — на фоне жесточайших мер безопасности со стороны полиции, которая буквально взяла протестующих в осаду, что тоже было воспринято иорданцами крайне негативно. Люди тогда вышли на улицы выразить свой протест против повышения налогов и цен на продовольствие. Они также выдвигали требования сократить государственные расходы на пособия, командировочные и, наконец, взять коррупцию под контроль. Постепенно к экономическим требованиям добавились осуждение нормализации отношений с «государством-оккупантом» (Израилем) и призывы разорвать с ним газовый контракт, заключенный в 2016 г. на сумму 10 млрд долл. сроком на 15 лет.
Несмотря на протесты, правительство продолжило намеченный курс, подняв еще больше цены на хлеб, сократив его субсидирование и увеличив стоимость госуслуг и налогов. Вследствие этого начались забастовки профсоюзов и фермеров. Они и переросли в итоге в массовые акции протеста по всей стране после объявления новой налоговой реформы. Согласно реформе, помимо остальных положений, налог должны будут платить семьи с годовым доходом от 8 тыс. иорданских динар (около 11 тыс. долл.), также она вводит повышение налога на добавленную стоимость до 16%. Параллельно поднимаются цены на бензин и электроэнергию. Это все стало последней каплей. Только за этот год цены на бензин взлетели в пять раз, а счета за электроэнергию выросли на 55%. Но главным триггером протестов стала сама реформа.
Иордания — бедная страна с прослойкой очень богатых людей, сделавших в большинстве своем состояние через уклонение от уплаты налогов, коррупцию и непотизм. Реформа предполагала ужесточить налоговые сборы, однако в текущих политических условиях и при «нездоровой» системе коррупции и фаворитизма, она прежде всего ударила бы по основной массе населения.
Учитывая происходящие подвижки, протестные настроения будут только нарастать, поскольку власти до сих пор не проявили серьезных намерений по отношению к борьбе с коррупцией и прочими пороками государственной системы.
Необходимо указать на еще один важный момент. Иордания — маленькая племенная страна, где все друг друга знают. Самоидентичность иорданца всегда определяется как «страна гражданства» и «принадлежность к племени», притом подчас принадлежность к племени превалирует над гражданством. По фамилии иорданцы безошибочно определяют принадлежность друг друга к конкретным семьям, кругам в иерархии страны, доступ к финансовым потокам и т. д. Все махинации и игры политиков и бизнесменов видны простым иорданцам как на ладони. Их терпение лопнуло именно тогда, когда сделанные нечистыми на руку воротилами и политиками дыры в экономике страны решили залатать, в очередной раз обирая население страны, и без того доведенное до критического состояния за последние годы.
Требования граждан обобщает, хоть и добавляет некоторую вариативность, плакат, замеченный у одной из протестующих в Аммане. Он гласит: «Настоящая реформа: смена правительства, отмена нового закона о подоходном налоге, пересмотр текущего налога на продажи, субсидирование хлеба, обновление закона о государственной гражданской службе, сокращение цен на электроэнергию и топливо, принятие законодательных мер по борьбе с коррупцией».
Полная прозрачность принятия политических решений и национальный диалог — это, пожалуй, то немногое, на что может пойти власть в текущих условиях.
Призыв к национальному единству и меры, принятые королем, — отмена реформы, заморозка роста цен на топливо, отставка кабинета министров — позволили в некоторой степени снять напряженность. Король ответил на главные требования своих подданных. Однако люди продолжают протестовать. И это в священный для мусульман месяц Рамадан! И если в Аммане протесты происходят очень мирно, то, к примеру, в Солте ситуация напряженная. «Они хотят, чтобы я забыл то, что они мне сделали до этого? Нет! Я помню, что поднялись цены. Мы задыхаемся», — подытоживает общие настроения протестующий в Солте.
Иорданцы почувствовали, что они могут влиять на политические решения и жизнь в стране. Учитывая происходящие подвижки, протестные настроения будут только нарастать, поскольку власти до сих пор не проявили серьезных намерений по отношению к борьбе с коррупцией и прочими пороками государственной системы. Народ же убежден, что корень всех проблем именно в коррупции и разграблении страны определенными лицами и их семьями.
На руку королю играет то, что в Иордании отсутствует сильная и внятная оппозиция. «Братья-мусульмане», потерпевшие сокрушительное поражение на недавних выборах в парламент, значительно поумерили свою активность и амбиции. На демонстрациях — только флаги Иордании как символ единения нации. Это говорит об отсутствии политического подтекста и нагнетания происходящего в интересах каких-либо политических сил.
На днях Король Иордании Абдалла II отправился в Мекку с сыном не только для совершения хаджа, но и для того, чтобы встретиться с Королем Саудовской Аравии, эмиром Кувейта и премьер-министром ОАЭ, по итогам встречи с которыми было объявлено, что Иордании будет выделен пакет помощи в размере 2,5 млрд долл. Кроме того, появились сообщения, что в этом году Иордания возьмет в долг 785 млн иорданских динар для погашения дефицита бюджета. Эти меры носят временный характер и проблемы не решат. Руководство Иордании пока не в состоянии адекватно оценить ситуацию и определить стратегию решения накопившихся проблем. Борьба с коррупцией и непотизмом может серьезно расшатать сплоченность кругов вокруг короля и привести к непредсказуемым последствиям для политической системы. То же касается пересмотра всех назначений, сделанных с 2011 г., потенциальной практики подотчетности состоятельных граждан на тему возникновения и приумножения их богатства, хотя за это выступают и сами иорданцы. Полная прозрачность принятия политических решений и национальный диалог — это, пожалуй, то немногое, на что может пойти власть в текущих условиях.
Власти Иордании уже сейчас находятся между США и ожиданиями своего народа как между молотом и наковальней.
Другая проблема, которая раскачивает Иорданию изнутри, — это ситуация вокруг Иерусалима и Палестины. Решение Д. Трампа создало пока малозаметный сторонней публике, но очень ощутимый изнутри раскол между арабами и их правительствами, проявившими абсолютную пассивность в отношении этого вопроса, если не считать заявлений и осуждения. Правящие круги арабских стран, держащие деньги в банках США, зависящие от американских инвестиций, дотаций и благосклонности, оказались не в состоянии встать на защиту Палестины. Для простых арабов подобное положение дел неприемлемо. Иорданцы ждут от Короля более жесткой позиции и действий, как и остальные арабы от своих лидеров, но пойти на более жесткие шаги король не может. В перспективе США также будут давить на Иорданию, чтобы та отказалась от статуса хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме. Власти Иордании уже сейчас находятся между США и ожиданиями своего народа как между молотом и наковальней. Эта ситуация и усугубление палестинской проблемы создаст крайне взрывоопасную обстановку и потенциально может спровоцировать новую волную арабских народных восстаний, наподобие «арабской весны».
Во всех отношениях Иордания находится в крайне непростом положении. Перспективы урегулирования ситуации туманны. Новый кабинет министров, скорее всего, не протянет больше полугода. Акции протеста могут временно пойти на спад, но затем разгорятся с новой силой. Королевство будет пытаться привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру и экономику страны, однако с учетом проблемы беженцев, продолжающегося кризиса в Сирии и обнаружившейся нестабильности внутри страны (пусть даже народ выступает не против режима, а против его определенных действий и решений) это будет сделать крайне затруднительно.
Усугубление нестабильности в Иордании не в интересах и внешних игроков, включая страны Персидского залива, да и самих США. Иордания, скорее всего, продолжит получать финансовую помощь, без которой исторически не может обходиться, однако если требования и чаяния граждан останутся без ответа правительства, протесты вновь наберут силу и парализуют страну. Тем не менее переворот пока маловероятен. Иорданцы, наученные горьким опытом соседей по региону, не хотят повторения подобных событий в своей стране. Их путь теперь — взять бразды правления собственной судьбой в свои руки, давить на существующую власть, вынуждая ее к диалогу, и путем прямого и прозрачного взаимодействия строить общее будущее. Возможно, именно так, здесь и сейчас, рождается настоящая демократия.
Статья опубликована в РСМД: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-ammane-vse-nespokoyno/
Фото: REUTERS/ Ammar Awad
 В последнее время у России сложился конструктивный диалог со всеми центрами силы на Ближнем Востоке – Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Однако между собой эти страны находятся в очень сложных отношениях. Особенно показателен здесь конфликт Тегерана и Тель-Авива. В этих условиях Москве приходится лавировать, чтобы поддерживать в равной степени рабочие контакты и с Исламской Республикой, и с еврейским государством. Чтобы поддерживать этот баланс, России необходимо хорошо понимать позицию каждой из сторон. «Профиль» постарался разобраться в том, что именно лежит в основании взаимной враждебности этих стран, посмотрев на проблему глазами Израиля.
В последнее время у России сложился конструктивный диалог со всеми центрами силы на Ближнем Востоке – Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Однако между собой эти страны находятся в очень сложных отношениях. Особенно показателен здесь конфликт Тегерана и Тель-Авива. В этих условиях Москве приходится лавировать, чтобы поддерживать в равной степени рабочие контакты и с Исламской Республикой, и с еврейским государством. Чтобы поддерживать этот баланс, России необходимо хорошо понимать позицию каждой из сторон. «Профиль» постарался разобраться в том, что именно лежит в основании взаимной враждебности этих стран, посмотрев на проблему глазами Израиля.
Сложности в отношениях Израиля и Ирана, существующие уже многие годы, в последнее время начали перерастать в открытые столкновения. Происходят они на полях Сирии. Присутствие подконтрольных Тегерану сил в этой республике нервирует Тель-Авив и подпитывает конфликт, причины которого принципиальны для каждой из сторон и в ближайшем будущем устранены не будут.
Главным раздражителем служит иранская ядерная программа. Для Израиля принципиально важно оставаться единственным обладателем ядерного оружия в регионе. Израильские ВВС наносили удары по ядерным объектам в соседних странах, чтобы исключить возможность начала там работ по созданию военной программы. Такова была судьба иракского (еще не запущенного) реактора Озирак, уничтоженного в результате военного налета в 1981 году. А совсем недавно израильтяне рассекретили информацию о том, как в 2007‑м разбомбили почти достроенный ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако с Ираном подобное проделать не удалось бы. Во‑первых, Исламская Республика в военном плане намного мощнее Сирии. Во‑вторых, иранские ядерные объекты надежно укрыты, так что для их уничтожения одного авианалета было бы недостаточно.
Опасения Израиля могло бы развеять подписанное в 2015 году соглашение по иранской ядерной программе – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По условиям этой сделки, заключенной между Тегераном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совбеза ООН + Германия), Исламская Республика замораживала свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако большинство израильских политиков и военных сочли этот договор плохим, поскольку он не предусматривал полного уничтожения иранской программы.
Сложившийся после подписания СВПД статус-кво был нарушен, когда Дональд Трамп объявил: США выходят из договора. В Израиле это известие встретили со смешанными чувствами. С одной стороны, там были согласны с тем, что заключенное администрацией Обамы соглашение несовершенно, и, следовательно, намерение Трампа выдвинуть Тегерану новые условия можно лишь приветствовать. Более того, добытые Моссад архивы доказывали, что ядерная программа Ирана была не такой уж и мирной. Получается, что иранцы с самого начала водили переговорщиков «шестерки» за нос, не рассказывая им всей правды. А раз так, значит, при подготовке СВПД не были учтены важные факты и сделку надо пересмотреть. С другой стороны, ничем не спровоцированный выход США из соглашения ставит вопрос: а можно ли верить в силу международных договоренностей? Для Тель-Авива огромное значение имеет сохранение тех немногих соглашений, что были заключены им с соседними государствами (мирные договоры с Египтом и Иорданией; прочие арабские страны не признают Государство Израиль). До сих пор никто в Египте, даже ненадолго пришедшие к власти «Братья-мусульмане» (запрещены в России), сильно недолюбливающие еврейское государство, не собирался отказываться от кемп-дэвидских соглашений. Трамп же создал опасный прецедент, и игнорировать это в Израиле не могут. Кроме того, сделанный Вашингтоном шаг играет на руку иранским радикалам, усиливая их позиции, что также не соответствует израильским интересам.
Для Тель-Авива все это означает неминуемое обострение отношений с Ираном: США далеко, а Израиль под боком, и свое неприятие американских действий иранцы уже продемонстрировали, обстреляв 10 мая позиции ЦАХАЛ на Голанских высотах. Разумеется, эта атака не осталась без ответа. Градус военной напряженности резко повысился. Израиль и до того неоднократно атаковал иранские позиции в Сирии. Но в данном случае столкновение не было обусловлено исключительно двусторонними проблемами. Его можно рассматривать в контексте особых отношений израильского руководства с администрацией Трампа и ужесточения подходов американского президента к Исламской Республике. Обмен ударами между Израилем и Ираном может быть расценен в Вашингтоне как очередное доказательство того, что усиление сдерживания Тегерана оправданно.
Среди израильского политического класса существует консенсус по поводу восприятия Ирана и его курса. В Израиле не забыли безответственные заявления высших иранских руководителей, в частности, президента Махмуда Ахмадинежада, о том, что еврейское государство не имеет права на существование и должно быть уничтожено. И хотя нынешний президент Исламской Республики Хасан Роухани подобных высказываний себе не позволял и даже старался разрядить атмосферу, израильтяне по-прежнему считают, что от Ирана исходит угроза, и относятся к ней серьезно.
Неудивительно, что нарастающую активность Ирана в Сирии, возможность появления там его военных баз и укрепление связей Тегерана с Хезболлой в Израиле воспринимают как вызов. Во‑первых, при таком развитии событий иранская военная инфраструктура окажется у самых израильских границ. Во‑вторых, перспектива начала обстрелов иранцами не только Голанских высот, но и собственно израильской территории приближает Тель-Авив и Тегеран к черте, за которой начинается масштабное военное столкновение. В Израиле, несмотря на хорошую подготовку ЦАХАЛ и эффективность противоракетной системы «Железный купол», совершенно не хотят на практике выяснять, чего будет стоить война с Ираном.
Впрочем, такая война – это сценарий явно алармистский. Иранцы осторожны и, как полагают некоторые израильские аналитики, все же поостерегутся атаковать еврейское государство. Маловероятна и реализация еще одной популярной ближневосточной страшилки – создание «иранского коридора», ведущего через Ирак и Сирию к берегу Средиземного моря. Американцы просто заблокируют этот «коридор» в Ираке.
Война с «Хезболластаном»
Более правдоподобно, что цель Ирана – не развязывание большой войны с Израилем, а превращение Сирии в «Хезболластан», что, конечно, явно противоречит интересам Тель-Авива. Шиитская организация Хезболла – важнейший, с точки зрения Израиля, элемент в раскладе военно-политических сил. Эта группировка тесно связана с Ираном и получает от него вооружение (израильтяне регулярно рапортуют об уничтожении конвоев, доставлявших иранское оружие Хезболле), но при этом имеет собственную повестку дня. Ошибкой было бы считать Хезболлу марионеткой Тегерана.
Хезболла, созданная в 1982 году на базе шиитской общины Ливана, активно участвует в политической жизни страны с 1992 года, когда впервые завоевала места в парламенте. Позже ее представители получили министерские посты, причем постепенно приобрели своего рода «контрольный пакет». В 2011‑м в сформированном после кризиса ливанском правительстве представители Хезболлы получили 18 кресел из 30 и заручились поддержкой выдвинутого ими премьера Наджиба Микати. На президентских выборах 2016‑го Хезболла помогла победить христианину-марониту Мишелю Ауну. В Тегеране эти выборы назвали «великим триумфом Исламского движения сопротивления в Ливане, а также иранских союзников и друзей». По словам советника духовного лидера Ирана, избрание Ауна было «выдающимся достижением» Хезболлы. Не менее удачными для Хезболлы стали парламентские выборы в нынешнем году: она укрепила позиции в парламенте, а возглавляемое премьер-министром Ливана Саадом Харири движение «Аль-Мустакбаль» потеряло свое влияние.
Хезболла – не только политическая партия, но и организация, обладающая более мощным военным потенциалом, чем государственная армия Ливана. По оценке израильских источников (возможно, завышенной), Хезболла располагает 45 000 боевиков, включая 21 тысячу на активной службе, и 100 000 ракет, точность которых постоянно повышается. Тысячи этих ракет – большого радиуса действия. В Израиле неоднократно высказывались опасения, что в следующей войне Хезболла противопоставит израильским ВВС современные системы ПВО. Вывод из этих оценок предсказуем: «Мы имеем дело с настоящей армией».
В Израиле считают, что рост политической и боевой мощи шиитской группировки означает, что больше не стоит рассматривать ее как отдельного игрока: теперь Ливан и Хезболлу можно отождествлять. Это ставит лидера Хезболлы Хасана Насраллу в сложное положение – либо он выбирает ливанскую идентичность и тогда должен более сдержанно вести себя во внешней политике, либо выбирает идентичность шиитскую и втягивает весь Ливан в конфликт.
Это противопоставление «идентичностей» выглядит надуманным, созданным искусственно ради достижения пропагандистских целей. Тем не менее сложно отрицать, что Хезболла, набравшаяся военного опыта в Сирии, – это реальный противник, с которым Тель-Авиву приходится считаться. Израиль неоднократно воевал с Хезболлой, и их последний конфликт, война 2006 года, стал для него серьезным испытанием. Израильская армия тогда так и не смогла одержать убедительную победу, не говоря уже о том, что еврейское государство полностью проиграло информационную войну. Многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение инфраструктуры и потери в рядах ЦАХАЛ – после такого даже у самых ярых израильских «ястребов» не возникает соблазна повторить войну с Хезболлой, особенно в нынешних условиях.
Союзники поневоле
Усиление позиций Ирана и Хезболлы заставляет Израиль принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Но у этой медали есть и другая сторона. Впервые за всю историю арабо-израильского конфликта сложилась ситуация, когда интересы Тель-Авива и его противников из числа суннитских монархий совпадают: все они не хотят, чтобы Иран и связанные с ним силы наращивали влияние на Ближнем Востоке. Хезболлу – доминирующую в Ливане политическую партию – террористической организацией официально считают многие страны не только на Западе, но и в арабском мире (ССАГПЗ, Лига арабских государств).
Монархии Залива, прежде всего Саудовская Аравия, опасающаяся дальнейшей проекции военной силы Ирана в регионе и роста его претензий на роль лидера исламского мира, видят в Израиле партнера по сдерживанию Исламской Республики. Улучшение арабо-израильских отношений происходит, несмотря на то что палестинская проблема так и не урегулирована. Хотя судьба Палестины по-прежнему волнует весь арабский мир, но военно-политическая конъюнктура, изменившаяся из-за усиления Ирана и его союзников, заставила суннитских монархов скорректировать приоритеты.
Это уже почувствовали в самой Палестине. Так, ХАМАС, опасаясь остаться без поддержки арабских покровителей, спровоцировал израильтян на жесткие действия против палестинцев, штурмовавших 14 мая границу с Газой. Таким образом ХАМАС рассчитывал вбить клин в отношения Тель-Авива и арабского мира. Израиль в тот день действительно непропорционально жестко подавил палестинские выступления, убив более 60 человек и ранив сотни безоружных людей. Даже в самом Израиле многие назвали случившееся позором. Тем не менее этот инцидент не привел к такому обострению отношений Израиля с арабскими государствами, которое могло бы поставить крест на их дальнейшем сотрудничестве.
Помимо налаживания контактов с суннитскими монархиями, Израиль сейчас хочет добиться того, чтобы внешние игроки, поддерживающие с Ираном отношения, оказали на него сдерживающее воздействие. Речь прежде всего идет о России.
Во время визита премьер-министра Нетаньяху на празднование Дня Победы в Москве этот вопрос обсуждался с российским руководством. Зеэв Элькин, израильский министр охраны окружающей среды и видный политический деятель, даже назвал его центральной темой переговоров, подчеркнув необходимость противодействия попыткам Ирана закрепиться на северных границах Израиля и наладить по соседству ракетное производство.
Вместе с тем вопрос вывода иранских войск из Сирии не может быть решен в отрыве от вопросов политического урегулирования и стабилизации в стране. Тегеран внес весомый вклад в разгром террористических организаций в Сирии и Ираке, участвовал в создании зон деэскалации в рамках Астанинского формата, способствовал снижению уровня противостояния на земле. Иранские войска и силы Хезболлы находятся в Сирии по приглашению Дамаска, и формально только правительство республики может принять решение о прекращении их присутствия.
На встрече с Асадом в Сочи 17 мая президент Путин назвал условия вывода иностранных войск из Сирии: «Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики».
В Израиле, где к Асаду всегда относились без всякой симпатии, понимают парадоксальность сложившейся ситуации. Сильный сирийский режим не будет заинтересован в том, чтобы на его земле находились иностранные войска. Значит, продолжающиеся попытки западной коалиции и сирийских оппозиционеров ослабить Асада заставляют его искать поддержку Ирана и Хезболлы, закрепляя их в Сирии. Иначе говоря, сейчас Израилю сильный Асад выгоднее, чем слабый, какие бы чувства он лично у израильтян ни вызывал.
Статья опубликована в издании Профиль: http://m.profile.ru/politika/item/125823-politika-irana-glazami-izrailya
Фото: Nabil Mounzer⁄EPA⁄Vostock Photo
Исламоведы проспали политическую активизацию исламского мира и арабскую весну
Written by Vitaly Naumkin Исламоведы несколько раз проспали интересные повороты в развитии исламского мира.
Исламоведы несколько раз проспали интересные повороты в развитии исламского мира.
…
В нашей стране не так много светских исламоведов. У нас есть внутреннее исламоведение – внутри самой исламской уммы. Есть и светское исламоведение, представленное немусульманами, но среди них есть немало отличных специалистов. Любая система нуждается во внешнем рецензенте.
…
Изменения происходят очень быстро. Арабскую весну никто не предвидел. Кто мог предвидеть, что три могучие страны арабского мира Египет, Сирия и Ирак придут к такому развитию событий?! Мои коллеги считали, что американское присутствие на Ближнем Востоке базируется на интересах в сфере энергоресурсов.
…
Но США уже сегодня производит больше газа, чем Россия. Россия, Иран и Катар уже не находятся в первой тройке по производству газа. Первая – Америка, и уже начинает экспортировать сырье. То же самое произойдет с нефтью. Американцы через 10 лет будут производить 16-17 млн. баррелей нефти в день.
Поэтому говорить, что у них на Ближнем Востоке все завязано не нефти и газе нельзя. Но интерес они не потеряют. Им важен транзит, кто будет покупать эту нефть. Многие государства исламского мира хотят, чтобы американцы обеспечивали их безопасность.
…
Не считаю, что будет III мировая война. Думаю, ядерная война не произойдет, они никому не нужна. Все хотят жить. Конфликтность и соперничество в мире растет. Вода – становится источником конфликтов. Тем не менее, считаю, что мы идем к другому мироустройству, но пока предугадать не можем. Здесь высока роль лидеров. К сожалению, западные партнеры не показывают примера мудрости.
…
Ислам неотделим от политики. Ислам всегда был связан с проблемой власти. Разобщенность в исламе началась с политических, а не вероучительных проблем. На Ближнем Востоке три неарабские страны вырвались в лидеры, что очень обидно арабам. Это Турция, Иран и Израиль. Политический ислам раскололся на ряд противостоящих друг другу течений.
…
Я сторонник модернизации ислама, отказа от определенных догм, которые мешают мусульманам вписаться в современный ритм и модель жизни. Есть отжившие вещи в догмах, созданными людьми, а не в божественном писании находятся. Пока некоторые страны не откажутся от этого, будут трудности. То, как в Саудовской Аравии относятся к женщинам рано или поздно закончится, так же как телесные наказания в отношении мусульман исчезнут.
…
Крестовые походы – сильнейший толчок в развитии Европы. Европейцы многому научились у мусульман. Французские крестьяне мыться не умели нормально, нормальные ткани увидели. Я уже не говорю об интеллектуальном вкладе. Взаимообогащение происходит во время столкновения западного и мусульманского мира.
…
Ряд арабских государств склонны считать большим врагом Иран, нежели Израиль. Это серьезный поворот в стратегии государств. Это сказывается на поведении Израиля. Для него кошмар роль Ирана в Сирии. Он бы хотел вытеснить оттуда «Хезболлу», которая помогает сирийскому правительству. Юг Сирии для Израиля приоритетен.
…
Даже представители прозападных элит признают, что Россия играет возрастающую роль в мире и на Ближнем Востоке. Мы укрепились в ОИК. Благодаря нашей роли в различных конфликтных ситуациях мы приобрели иные возможности.
…
Молодые люди, которые принимают ислам, испытывают большое разочарование в том образе жизни и ценностях, которые насаждаются в западной цивилизации.
…
Переговаривающиеся по Сирии стороны очень далеки. Без деталей. Пока далеки. Шанс договориться всегда есть.
…
Бессмысленно навязывать мусульманам объединение в рамках одного муфтията под воздействием человека, который по определению не является таким, как, скажем, Папа Римский, такого в исламе нет.
Материал опубликован на портале OnKavkaz: https://onkavkaz.com/news/2223-vitalii-naumkin-islamovedy-prospali-politicheskuyu-aktivizaciyu-islamskogo-mira-i-arabskuyu-ves.html
 Демонстрационный эффект от удара США и их союзников по Сирии был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО. Это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, считает эксперт клуба «Валдай», научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.
Демонстрационный эффект от удара США и их союзников по Сирии был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО. Это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, считает эксперт клуба «Валдай», научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.
Нет ничего удивительного в том, что любые действия Запада против Дамаска воспринимаются сегодня в России как инструменты борьбы с нашей страной, становящейся в последние годы едва не ключевым игроком на Ближнем Востоке.
В выступлении Терезы Мэй после начала ударов по территории Сирийской Арабской Республики обратило на себя внимание упоминание – в контексте якобы явившегося целью военных действий коалиции – о предотвращении использования химоружия также и на «территории Великобритании». Это свидетельствовало о том, что британский участник «новой тройственной агрессии» увязывает её с кампанией против Москвы, которую Лондон с упорной бессмысленностью продолжает обвинять в мнимом использовании химоружия на территории Великобритании.
Мне странно, что англичане не видят огромного числа несостыковок в своих версиях в историях как со Скрипалями, так и с пресловутым использованием химического оружия сирийской армией. Странно потому, что Великобритания является самым опытным государством, использовавшим химическое оружие на Ближнем Востоке. Конечно, это было очень давно. 17 апреля исполняется сто один год с того момента, как британская армия начала применять хлорин против турецких войск в Палестине, в ходе так называемого Второго сражения в Газе. Правда, это не обеспечило им военного успеха (тоже интересный урок). На Ближнем Востоке об этом помнят, хотя официально химическое оружие было запрещено только Женевским протоколом в 1925 году. Но и после Первой мировой войны, в августе 1919 года англичане использовали химоружие в ходе интервенции на севере России, а в 1920-е годы – против иракских повстанцев. Справедливости ради заметим, что, как мы знаем, они не были в этом одиноки.
О нынешней интервенции союзников уже много сказано, но нужно время, чтобы разобраться во всех её деталях. Ясно, что демонстрационный эффект ими был обеспечен лишь частично. Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбёжек территории суверенных государств последнего времени (Югославии, Ирака, Ливии и других), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право. Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО (далеко не самыми современными и совершенными, системами, произведёнными в России/СССР более трёх десятков лет назад – по данным российского министерства обороны, 71 из 103 крылатых ракет). Плюс для американцев здесь лишь в том, что предприятия американского ВПК получат много новых заказов на производство «Томагавков». Большинство ударов было предусмотрительно нанесено с морских и воздушных носителей, находящихся за пределами территории Сирии.
Но это и победа для России. Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей. Вероятно, на основании каких-то договорённостей, о существовании которых можно только догадываться, нашим военным не пришлось самим вовлекаться в военные действия и прибегать к использованию самых совершенных зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Ракетно-бомбовые удары чудесным образом не привели к жертвам среди не только российских военных и гражданских специалистов, но и сирийских военнослужащих. Правда, они вызвали восторг среди боевиков, надеющихся, что фарс с использованием химического оружия удастся повторить, и Вашингтон с союзниками проведёт новую военную кампанию.
В то же время командиров вооружённых группировок разочаровало заявление американского президента о том, что эта акция не преследовала цель «смены режима» и к тому же носит единичный, пунитивный и предупредительный характер. Если ещё раз обвинить Асада в использовании химоружия не удастся, спрашивают они, значит он, показав свою силу и победив в Восточной Гуте, теперь может действовать ещё более уверенно? Существенно, что Москва теперь может вернуться к вопросу о поставках Сирии систем С-300, от чего она воздерживалась с учётом озабоченностей некоторых партнёров (Израиля).
Надо заметить, что несмотря на острую риторику, все конфликтующие стороны в разной степени проявили в ходе последних событий сдержанность и ответственность, не допустив эскалации. Россия и сегодня, если судить по сделанным официальными лицами заявлений, намерена действовать исключительно дипломатическими, а не военными методами. В ближневосточном регионе даже среди союзников США крепнет недовольство самочинными действиями Вашингтона: к нарушению суверенитета глобальными игроками здесь в принципе относятся негативно, даже если из тактических соображений некоторые соседи Сирии и Ирана хотели бы их ослабления.
Тем не менее тройственной коалиции, пусть и тоже частично, удалось добиться ещё одной из поставленных её руководителями задач – вбить клин в отношения между участниками «тройки»: Россия, Турция, Иран. Турецкое руководство предсказуемо поддержало ограниченные удары по сирийским объектам. Но, собственно говоря, различия в позициях трёх государств в отношении сирийской проблемы и до этого было невозможно скрыть. И уже тот факт, что формат их сотрудничества как «государств-гарантов», несмотря на эти различия, не только сохранялся, но и продолжал развиваться, в основном объяснялся цементирующей ролью Москвы, умело выруливавшей из опасных поворотов с помощью дипломатии астанинского процесса и мощной динамики двусторонних отношений.
О «тройственной агрессии»
31 октября 1956 года Великобритания и Франция присоединились к Израилю, начавшему военные действия против Египта, лидер которого незадолго до этого национализировал Суэцкий канал. В ходе военной кампании, получившей название «тройственной агрессии», члены коалиции подвергли бомбардировке Каир, Александрию и города зоны канала. Сейчас, когда 14 апреля 2018 года против другой арабской страны началась «новая тройственная агрессия», параллели напрашиваются сами собой.
Кстати, закончилась та, прежняя кампания для её организаторов бесславно, но не зря говорят, что история учит тому, что она ничему не учит. В отличие от англо-франко-израильской агрессии против Египта 1956 года, сторонами новой стали США, Великобритания и Франция. Израиль, несмотря на его известную враждебность Дамаску, в этих событиях не участвовал. Кроме того, в 1956 году позиции СССР и США, как ни странно для эпохи биполярного мира, были близки друг другу.
Коль скоро мы заговорили об уроках истории, вспомним ещё один её ближневосточный эпизод. В июле 1958 года в Ираке – самом центре созданного в 1955 году Багдадского пакта (или СЕНТО, в котором ведущую роль играла Великобритания) – произошла антимонархическая революция под руководством Абдель Карима Касема. Она была воспринята на Западе как продолжение суэцкого, 1956 года, триумфа Гамаля Абделя Насера и сильный удар по позициям Запада, поскольку направленный против СССР Багдадский пакт уходил в небытие.
Эйзенхауэр не разделял панических настроений Черчилля, предсказывавшего, что теперь весь Ближний Восток, если Запад не предпримет решительных действий, может скоро оказаться под советским контролем. Он опасался революционного «эффекта домино», подобного тому, что имело место в Юго-Восточной Азии. Высадка 20 тысяч американских морских пехотинцев в Ливане для поддержки лояльного Западу президента Камиля Шамуна и десантирование 6 тысяч британских парашютистов в Иордании для поддержки короля Хусейна сразу же после свержения монархии в Ираке подтверждали серьёзность этих опасений. Теперь, через два года после Суэца, США и Великобритания вновь действовали совместно и обсуждали планы возможной военной интервенции в Ираке.
Однако в отличие от Макмиллана Эйзенхауэр не проявлял решимости прибегнуть к военной силе: его доктрина 1957 года не предполагала, что США на практике будут непременно использовать военную силу для свержения коммунистических или левых режимов. США явно предпочитали открытой военной интервенции тайные операции спецслужб. Кроме того, США не хотели терять моральный капитал, который они приобрели в арабском мире после Суэца. Их репутация стала ухудшаться лишь в самом конце 1950-х годов, когда они, как и Великобритания, стали занимать явно произраильскую позицию. Но госсекретарь Даллес открыто говорил о необходимости дистанцироваться от европейского колониализма.
Касем, ударивший по самому центру антисоветской блоковой системы на Ближнем и Среднем Востоке и к тому же установивший неплохие отношения с местными коммунистами, был для Москвы хорошим кандидатом в новые союзники. Международный кризис вокруг Ирака в 1958 году был значительно более серьёзным, чем принято считать. Советский Союз выступил с резкими угрожающими предупреждениями насчёт англо-американской интервенции в Ираке. Решения в советском руководстве принимались непросто: представление о том, будто в то время при обсуждении вопросов внешней политики на политбюро ЦК КПСС господствовало единомыслие, было связано исключительно с засекреченностью материалов его заседаний.
Повторяя опасения военных, которые высказывались ещё в 1957 году, маршал Ворошилов на заседаниях заявлял, что ему не нравится направленность политики советского правительства на Ближнем Востоке и что частое повторение угроз в адрес Запада их обесценивает (имелись в виду два заявления советского правительства). Он считал, что поддержка прогрессивных режимов на Ближнем Востоке может иметь для Советского Союза катастрофические последствия, спровоцировав войну с США. Другие члены политбюро также не хотели войны, но считали, что лучший способ избежать её – постоянно угрожать США. Эту точку зрения поддерживал Хрущёв. Микоян говорил, что США размышляют, пойти ли им на интервенцию в Ираке, и ставят это в зависимость от того, будет ли СССР в этом случае воевать в защиту этой страны. (Несчастный Ирак впоследствии ещё несколько раз становился объектом силовой акции Запада.) Ворошилов же утверждал, что Запад уже принял решение о вмешательстве, поэтому не надо рисковать, чтобы тем самым не стать обязанными вступить с США в открытое военное столкновение.
Можно предположить, что вероятность столкновения великих держав из-за Ирака была тогда вполне реальной. Именно страх перед возможной военной англо-американской интервенцией лежал в основе обращения Хрущёва к лидерам шести государств на конференции в Женеве 22 июля. Было принято решение об оказании военной помощи Ираку, а доставка вооружений и военной техники осуществлялась при помощи Египта. В то же время советское руководство спокойно отнеслось к отправке американских и британских войск в Ливан и Иорданию.
Между западными державами не было согласия и по вопросу о признании Ирака. Когда вопрос об интервенции был снят, Англия считала необходимым признать Ирак, чтобы не толкать его в объятия СССР, США же не хотели торопиться, чтобы не вызвать обиду у лидеров Ирана и Турции. Тем не менее и США пошли на признание нового режима. Но уже активно шло советско-иракское сближение, и под влиянием Москвы Касем уже согласился сотрудничать с местными коммунистами.
Для Хрущёва огромное значение имела асимметрия иракского кризиса. Признание Ирака Западом было расценено как политическая победа СССР, советский лидер стал действовать на международной арене гораздо более решительно, что особенно ярко проявилось во время кубинского кризиса (где всё же победил разум). Был сделан вывод, что Запад хотел силой свергнуть иракский режим, но отступил под советским давлением, и что мощное политическое давление является единственным языком, понятным для западных соперников СССР. Таким образом, Ирак сыграл важную роль в холодной войне. В новой холодной войне похожую роль играет Сирия.
Точка в сирийском конфликте и в том, что происходит вокруг него, ещё далеко не поставлена. Но одностороннее использование военной силы не может приблизить день, когда этот конфликт удастся урегулировать.
Статья опубликована на сайте клуба "Валдай": http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/naumkin-agressiya/
Фото: Hassan Ammar/AP
Безальтернативная хрупкость: судьба государства-нации в арабском мире
Written by Administrator Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
Статья Василия Кузнецова и Валида Салема
События последних лет — кризис на Украине, референдум о независимости Шотландии, рост сепаратистских настроений в других странах Европы, и прежде всего в Испании, — актуализировали дискуссию о путях развития и кризисе модели национального государства. Гражданские войны, охватившие Ближний Восток, разрушение государственности Ливии, отчасти — Ирака и Йемена, глубокий ее кризис в Сирии и в других странах, возникновение и быстрое усиление «Исламского государства» (ИГ) сделали ее особенно актуальной для арабского мира. Сам тезис о кризисе ближневосточной модели национального государства был выдвинут в известной статье В.В. Наумкина «Цивилизации и кризис наций-государств» http://www.globalaffairs.ru/number/Tcivilizatcii-i-krizis-natcii-gosudarstv-16393. В значительной степени инициированные этим текстом дискуссии ведутся сегодня, в основном, вокруг двух проблем. Во-первых, если согласиться с тем, что сейчас происходит разрушение системы Сайкс-Пико, то какая иная система может прийти ей на смену? И во-вторых, является ли ИГ прообразом альтернативной государственности для региона, не только угрожающей существующим режимам, но и предлагающей некий позитивный проект?
Ответы на эти вопросы требуют прежде всего анализа существующей в арабском мире модели (или моделей) государственности.
Национальное государство в арабском мире: к определению модели
Ставший уже общим местом в экспертной среде (и не только в ней) тезис о «конце Сайкс-Пико» в реальности означает нечто гораздо большее, чем констатацию упразднения границ, установленных европейскими державами. Речь, в сущности, идет о разрушении всей модели государственности, сформировавшейся в эпоху колониальной зависимости. При этом не имеет значения, в каком отношении модель эта появилась благодаря, а в какой — вопреки колониальным властям.
Действительно, основные современные институты государственной власти в таких странах, как Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Алжир, отчасти — Ливия, были созданы европейцами или под их давлением. Даже в Египте или Тунисе, где реформы начались в доколониальный период, западное присутствие оказало существенное воздействие на политическую архитектуру.
Однако вместе с тем колониальные власти не ставили себе задачей проведение быстрой модернизации социальной сферы и, напротив (особенно в британском варианте колониализма), были склонны использовать традиционные этноконфессиональ- ные или трайбалистские линии раскола для взращивания лояльных групп в местном обществе.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в получивших независимость позже других монархиях Залива, где британские власти непосредственно вмешивались в межплеменные отношения и в династическую борьбу. Однако роль своеобразных «агентов» Запада играла и христианская компрадорская буржуазия в Ливане, и суннитская элита в Ираке, а о необходимости поддержки межплеменных и межрасовых разногласий в Судане в британском парламенте говорилось прямо.
Такой подход, частично модернизировавший систему управления, но консервировавший традиционные идентичности, а вместе с ними и социальные противоречия, в значительной степени определил специфическое лицо арабской государственности и присущие ей внутренние противоречия.
Национально-освободительные движения, получившие мощный импульс к развитию после Первой мировой войны, также были продуктом модернизационного проекта и в идейном плане зависели от европейской общественно-политической мысли. Те из них, что сумели стать реальными акторами политической жизни соответствующих стран, не пытались противопоставить внедрявшейся западной государственности какую-то альтернативу, но, напротив, стремились к тому, чтобы обрести полноту этой государственности. В сущности, речь для них прежде всего шла об обретении равных с европейцами прав. Отсюда и восторг по поводу «14 пунктов В. Вильсона», и активные дискуссии в Алжире, Тунисе, Ливане о том, надо ли добиваться независимости, или, напротив, необходимо стремиться к полной интеграции в метрополии, или же настаивать на широкой автономии.
Все это подготовило почву для оформления национальной государственности на Арабском Востоке, в основном уже после Второй мировой войны. Реализация ее, однако, затруднялась двумя обстоятельствами.
Одно из них заключалась в том, что при наличии определенных инструментов государственного строительства, сама идея нациогенеза в регионе укоренена была слабо. Отчасти дело тут было в изначальном несоответствии европейского понятия «нация» (хоть в его «биологическом», хоть в «социальном» понимании) и арабского понятия «умма» [umma](см. далее), отчасти в том, что модернизационный проект в большинстве стран региона начал реализовываться уже после получения независимости.
Первым следствием такой ситуации, сложившейся в условиях интеграции провозгласивших свою независимость государств в мирополитическую систему (что диктовало, среди прочего, необходимость идейно-политической самоидентификации), стало формирование специфических гибридных идеологий нациестроительства.
Основными такими конкурирующими идеологиями стали: панарабизм (насеризм, баасизм, южнойеменский марксизм), регионализм (идеи единства Великой Сирии, Благодатного полумесяца, Долины Нила, Магриба и т.п.) и страновой национализм (особенно в Тунисе). Четвертой альтернативой выступал панисламизм, специфическим образом имплементировавший исламскую концепцию религиозной уммы в европейский националистический дискурс. Более маргинальное положение занимали идеи неарабского этнического национализма (берберского, курдского и т.п.), внутригосударственного регионализма (Триполитания и Киренаика в Ливии и т.п.), а также панрегионализма (например, средиземноморского единства (Ливан, Тунис) или африканской идентичности (Марокко, Египет, Судан).
В отдельных случаях эти идеологии не только конкурировали друг с другом, но и дополняли одна другую, как дополняли друг друга идеи панарабизма и египетского эксепционализма (fir'auniya).
Все эти идеологические построения, сколь бы оригинальными они ни были, создавались в рамках европейской общественно-политической мысли, в категориях которой их авторы пытались описать (или сконструировать) региональную реальность. Именно поэтому в большинстве этих концепций вопрос о нации был лишь элементом более общей (иной раз — тотальной) идеологической конструкции, интерпретировавшей тем или иным образом идеи великих европейских идеологий.
При этом перенесение на ближневосточную почву европейских концепций, очевидно, требовало их адаптации к особенностям многоукладных обществ. Так, обращаясь к общественно-политической мысли левого толка, арабские политики, как правило, отказывались от идеи межклассовой борьбы, пытаясь выстроить корпоративное государство; практически никогда они не уничтожали полностью частный сектор в экономике; и наоборот, при всех моделях экономической либерализации доля государственного сектора оставалась очень высокой. Наконец, совершенно неприемлемым для местных условий оказывался атеистический дискурс левых.
Однако, несмотря на всю разнонаправленность этих гибридных идеологий, на практике ни одна из них не вела к отрицанию принадлежности соответствующей страны к арабскому и исламскому миру, что в институциональном плане проявлялось в членстве государств в ЛАГ и ОИК (ОИС). Конечно, на практике арабская и исламская идентичности могли означать совершенно разные вещи. Ислам мог пониматься как ценностная основа всей социально-политической системы (например, Саудовская Аравия), а мог - просто как составляющая часть культурно-исторического наследия общества (баасистская Сирия, бургибов- ский Тунис и т.д.). Точно так же и принадлежность к арабскому миру могла определяться как основной цивилизационный маркер (например, у насеристов или баасистов), а могла — как один из маркеров, равный другим (средиземноморским, африканским, исламским и пр.).
Это общее понимание арабо-мусульманской цивилизационной принадлежности, существовавшее в условиях доминирования существенно различающихся между собой гибридных идеологий, позволяет говорить о существовании общей модели идеологического нациестроительства.
Вторым следствием незавершенности нациогенеза (и гибридного характера идеологий) стал дефицит легитимности государств региона.
Существование каждого из них никогда не было безусловным, никогда не рассматривалось как абсолютно естественное — отсюда бесконечные дискуссии об объединении или, наоборот, разделении тех или иных стран — одних проектов объединения нескольких государств в рамках федерации или конфедерации можно назвать более десятка. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев проекты эти оставались неосуществленными. Исключение составляет краткий и не очень успешный опыт существования ОАР, болезненное объединение Северного и Южного Йемена и вполне успешный, хотя и специфический проект ОАЭ. Если само появление проектов объединения или, напротив, сепарации было связано с поисками национальной идентичности, которыми была пронизана вся арабская общественно-политическая мысль приблизительно в первые две трети XX века, то причины их нереализованности состояли как раз в специфике политической и социально-экономической реальности региона. В этой реальности существовал определенный набор в основном вполне признанных государств, каждое из которых развивалось в собственной логике и политические системы которых, их экономические и социальные структуры по мере развития все более дифференцировались (достаточно сравнить в этом отношении траектории развития Саудовской Аравии и, например, Сирии).
Другое обстоятельство, препятствовавшее оформлению современной государственности, было связано с вышеупомянутым несоответствием социального уклада и государственных институтов.
Понятно, что асинхрония социально-экономического и политического развития арабских стран проявлялась в разной степени и по-разному. В государствах Залива, изначально демонстрировавших относительную гармонию социально-экономической и политической сфер, рост нефтяных доходов и необходимость включения в мир-систему вели к тому, что экономическая модернизация значительно опережала политическую. В арабских республиках-нефтеимпортерах, а также в Алжире ситуация была прямо противоположной — современные политические институты в них действовали в условиях в основном традиционного общества. Наконец, в Марокко и Иордании и политическая система, и социум сочетали в себе признаки традиции и модерна.
Описанная дисгармония развития имела своим следствием непреходящую многоукладность и усиливающуюся фрагменти- рованность арабских социумов.
Рост доходов и качества жизни широких слоев населения в арабском мире в последние два-три десятилетия (в период неолиберальной экономической политики и роста цен на углеводороды) привел к повышению покупательной способности и увеличению спроса главным образом на западные товары3. В социально-политическом отношении итогом этого стало повышение действенности инструментов «мягкой силы» государств Запада4, распространение некоторых элементов западного образа жизни и ценностей, что повлекло за собой угрозу размывания традиционных идентичностей и социальных связей и — по принципу вызова-ответа — их актуализацию и усиление социальной фрагментации.
Дополнительным стимулом для такой фрагментации стал бюрократический характер большинства арабских режимов, в которых возможность производства богатств определялась не успехами среднего бизнеса в инновационном развитии, а наличием у него доступа к центрам политической власти, что, в свою очередь, укрепляло патриархальные связи и клановость.
Впрочем, в значительной степени поддержание фрагмен- тированности, конфессионализма, патримониальных и неопатримониальных расколов было и элементом сознательной стратегии режимов, позволявшей им поддерживать авторитаризм. Сохранение статуса подданных, препятствовавшее развитию гражданского самосознания, осуществлялось по-разному в разных странах, однако результатом неизменно оказывалось подавление плюрализма и непреходящая диктатура большинства, обеспечивавшая сохранение авторитаризма.
В странах-нефтеимпортерах, а также отчасти в Ливии и Алжире социальная фрагментация развивалась в условиях деидеологизации режимов, приобретении ими постмодернистского характера, когда элементы самых разных идеологических дискурсов использовались элитами для достижения прагматических целей5. В совокупности с либеральной экономической политикой идеологическая эклектика привела к формированию общества потребления, развитие которого, однако, в отличие от стран Запада, не было обеспечено экономическим потенциалом (опять-таки кроме Ливии). Результатом всех этих процессов стал серьезный ценностный кризис многих арабских социумов, растущее ощущение фрустрации (особенно в сфере семейнобрачных отношений) и относительная депривация, ставшая в итоге одной из основных причин событий «арабской весны».
Другим следствием дисгармонии социально-политического развития стали определенные институциональные дисбалансы, при которых отдельные институты государственной власти (армия, бюрократия, отчасти институты, обеспечивающие социально-экономическую поддержку населения и развитие) оказывались значительно более развиты, чем другие (политические партии, выборы, институты гражданского общества).
Вообще, если рассматривать новейшую историю арабского мира через призму развития институтов, то, по всей видимости, в ней можно выделить несколько основных этапов.
Первый - это вышеупомянутый колониальный период и первые годы независимости, когда были созданы базовые верхушечные институты управления, опирающиеся на привилегированные социальные группы (обычно представленные местным населением, но в некоторых случаях (Алжир, в меньшей степени — Тунис, Ливия) — европейцами). Политические партии и движения, возникавшие на этом этапе, либо представляли собой клубы вестернизированной элиты (например, в Ливии, где они возникали на основе элитарных спортивных клубов), либо служили вестернизированной декорацией для традиционных структур (например, в Судане).
Второй — это период «авторитаризма развития» (1950- 1960/70-е годы), характеризовавшийся укреплением институтов государственной власти, возникновением суперпрезидентских республик, становлением однопартийных систем, концепции корпоративного государства, укреплением силовых структур и их политизацией.
Окончание этого периода было связано в большинстве случаев с кризисом панарабизма после поражения арабских армий в войне 1967 года, а также с изменившейся международной конъюнктурой, заставившей режимы провести либеральные экономические реформы в 1970-е годы.
Третий — это период гибридного авторитаризма, или «фасадной демократии» (1980-2010), характеризовавшийся формальным введением многопартийности, становлением доминантно-партийных систем, развитием институтов гражданского общества в ряде стран, частичной деполитизацией силовых структур.
Относительная либерализация политической сферы в этот период была связана с целым рядом факторов, среди которых особо стоит отметить естественную смену поколений (к середине 1970-х годов в активный возраст вошло первое поколение, родившееся в период независимости и требовавшее политического участия), идеологический кризис и распространение исламизма в 1980-е годы (связанное с советским вторжением в Афганистан и исламской революцией в Иране), крах биполярной системы и превращение демократии в своеобразное sine qua none нового миропорядка.
Важным элементом развития государственности на этом этапе стало постепенное становление институтов гражданского общества в 1990-2000-е годы, вызванное ростом благосостояния граждан, большей открытостью государств, восприятием образованными слоями общества западных ценностей и норм поведения.
Отчасти появление этих институтов было инициировано самими режимами, пытавшимися таким образом манипулировать обществами, но основную роль здесь все же сыграла модернизация социальной сферы, развитие системы образования и т.д. Так, например, число зарегистрированных волонтерских организаций в арабских странах выросло в период 1995-2007 годов со 120 000 до 250 000. Активность этого формирующегося гражданского общества, изначально направленная в основном на социальную сферу (благотворительность, поддержка неимущих, социальные проекты), была во многом связана с деятельностью исламистских организаций («Братья-мусульмане» в Египте, «Хизбалла» в Ливане, ХАМАС в Палестине, исламские благотворительные фонды и т.д.). Однако постепенно — в 2000-е годы — и уже вне всякой связи с исламистами она начала распространяться и на другие сферы, прежде всего на защиту гражданских прав населения. По мере информатизации стали формироваться альтернативные официальным независимые СМИ и интернет-ресурсы, большую протестную активность в ряде стран демонстрировала корпорация адвокатов, начали появляться (полу-) независимые НПО, защищающие права женщин и т.д. В конце 2000-х годов (особенно в 2008 году) в таких странах, как Египет и Тунис, фиксируются массовые забастовочные движения, задавленные властью, но поддержанные гражданским обществом.
Вместе с тем этот процесс развития гражданского общества затронул разные страны в неодинаковой степени и где-то вообще был незаметен. Так, в Саудовской Аравии и некоторых других государствах Залива независимые гражданские организации были запрещены или представляли собой контролируемые властью формы организации родоплеменных, этноконфес- сиональных и других традиционных социальных групп.
Приведенная периодизация — это, конечно, своеобразный «идеальный тип», обнаружить который в реальной политической истории каждого отдельно взятого государства региона едва ли возможно. В наибольшей степени к нему приближаются Египет и Тунис, отчасти Алжир. Впрочем, и в них все обстояло по-разному. Так, в Тунисе армия всегда оставалась деполитизированной, а гражданские институты оказались, несомненно, более развитыми, чем в других странах, — еще в период борьбы за независимость профсоюзы представляли собой вторую по величине гражданскую организацию страны (первой была партия «Новый Дустур»), а на протяжении всего независимого развития они оставались главным каналом обратной связи между обществом и властью. В Алжире, несмотря на все реформы и всю модернизацию, традиционные связи, племенной кпиентелизм остаются основой не только социальных, но и политических отношений на локальном и региональном уровнях и сегодня. Вместе с тем в таких монархиях, как Марокко или Иордания, активное развитие современных демократических институтов политической власти (в особенности в Марокко) оказывается возможным именно благодаря институту монархической власти, обретающему легитимность и завоевывающему лояльность общества посредством традиционных инструментов (в том числе через хашимитское происхождение династий). В Сирии либерализации политической сферы так и не произошло, в Ираке обвальная демократизация была вызвана иностранной интервенцией, ливийская политическая система, выстроенная М. Каддафи, основывалась на принципиальном отказе от создания общепринятых институтов политической власти, а специфические джамахирийские институты, по сути дела, служили формой мимикрии традиционных племенных отношений. Что касается монархий Аравийского полуострова, то там институты развивались в описанном направлении, однако очень медленно: процесс начался позже, общество практически не было модернизировано, а нефтяная рента позволяла долго консервировать традиционный уклад. Наконец, особый случай составляет Ливан, где парадоксальным образом произошло активное развитие гражданских институтов (в основном на традиционной этноконфес- сиональной основе), однако институты государственной власти оказались очень слабыми, что привело к перманентному политическому кризису.
Фрагментированность арабских обществ в совокупности с дисгармонией институционального развития и эклектичностью режимов привели к формированию так называемых множественных государств (multiple states) в регионе. Описывая их, С.К. Фарсум говорит о существовании трех государств в одном.
Первое — это так называемое историческое государство, где традиционная бюрократия функционирует как инструмент политического патронажа, а правящая элита использует патронаж, чтобы консолидировать свои позиции и добиться солидарности и поддержки от разных слоев общества. Второе — это «современное государство» (modern state), представляющее собой конгломерат автономных или полуавтономных бюрократических ведомств. Это государство технократов, зачастую получивших западное образование и ориентированных на развитие местной буржуазии. Оно выполняет две важнейшие функции: планирование, финансирование и создание новых экономических предприятий и инфраструктуры; и организация проектов, их финансирование и управление бюрократией в сфере социальной поддержки населения. «Второе государство» играет ключевую роль в поддержке своеобразного договора об обмене экономических благ на политические права, гарантировавшего консолидацию режимов. Наконец, «третье государство» — это в сущности своей репрессивный аппарат, представляющий собой закрытую касту, защищающую правящую элиту.
Помимо этих трех государств сегодня имеет смысл говорить еще как минимум о двух.
Во-первых, это государство креативного класса, составляющее основной субстрат для активно развивающегося гражданского общества. Оно относительно независимо от первых трех государств, модернизировано, интегрировано в западное информационное пространство в большей степени, чем другие, разделяет либеральные ценности (обычно — в их леволиберальной интерпретации). Занятость в интеллектуальной сфере в относительно независимых от государства секторах экономики, прочные связи с западным миром обеспечивают некоторую автономию этого класса.
Во-вторых, это традиционное государство, сохраняющееся в сельской местности и в пригородах городских агломераций, куда переселяются вчерашние сельчане, воспроизводя здесь традиционные модели социальных отношений. Если для креативного класса характерен усиленный индивидуализм, то эти традиционные слои общества, напротив, обыкновенно социоцентричны. Однако подобно последним они сохраняют значительную автономию от первых трех государств, подчас мало интегрируясь в современные секторы экономики и воспроизводя на локальном уровне традиционные модели властных отношений, основную роль в которых по-прежнему играют не чиновники или партийные деятели, а племенные шейхи, религиозные авторитеты и т.п.
Понятно, что последние два государства в сущности своей составляют оппозицию первым трем, и именно их лояльность арабские режимы на протяжении долгого времени были вынуждены покупать социальными программами, относительной автономией интеллектуальной сферы и т.д. При этом бытующее мнение о деполитизированности традиционного общества или креативного класса кажется сегодня неверным. Возможно, точнее было бы говорить о стратегиях «вненаходимости», описанных А. Юрчаком для общества позднего социализма. Такие стратегии предполагают принятие политического мира на формальном уровне, даже активную вовлеченность в этот мир при одновременном его неприятии на уровне сущностном. Так, например, племенные шейхи в Алжире или Ливии могли занимать определенные государственные должности, выступая агентами власти на местах, однако в реальности источником их легитимности служили именно традиционные связи, а не государственное назначение. Точно так же и интеллектуалы, формально принимая существующий режим, вроде бы отказываясь от борьбы с ним, в реальности переносили свою активность на сферу гражданских отношений (например, в рамках правозащитных организаций), тем самым способствуя его ослаблению и делегитимизации.
Арабское пробуждение и кризис государственности
Гибридный характер идеологий нациестроительства, дефицит легитимности государств, фрагментированность обществ, дисбалансы институционального развития, порожденная этим «множественность государств» и связанные со всем этим структурные противоречия ярко проявились в период арабского пробуждения, обозначившего глубокий кризис государственности в странах региона.
Если анализировать события, начавшиеся в 2010 году, через призму проблем государственности, то они допускают несколько взаимодополняющих интерпретаций.
Во-первых, их можно рассматривать через призму теорий демократического транзита, считая, что основным стремлением протестовавших в 2011 году было именно расширение политического участия, а сами протестовавшие представляли главным образом описанный креативный класс со всеми его особенностями, его вестернизированностью и приверженностью (условной) к либеральным ценностям.
При таком подходе демократизация является не инструментом социально-экономического прогресса (что, вообще говоря, сомнительно, учитывая позитивный азиатский и негативный африканский опыты), а самоцелью развития гражданского общества и инструментом гармонизации его отношений с властью.
Во-вторых, их можно рассматривать как результат исчерпанности социального контракта между обществом и государством. Невыполнение последним его социально-экономических обязательств, приведшее к росту безработицы и коррупции, в совокупности с завышенными ожиданиями общества потребления, рассматривавшего социальную политику властей не как благодеяние, но как одно из своих неотъемлемых прав, вывело на площади как креативный класс, так и традиционные слои общества, ставшие ударной силой революций.
Две эти интерпретации более или менее соответствуют двум из трех основных подходов к анализу феномена арабского пробуждения, распространенных в российском экспертном сообществе, — политико-психологическому, вписанному когда в либеральную, а когда в структуралистскую или постмодернистскую парадигму, и социально-экономическому, наследующему марксистские традиции. Третий подход, подчеркивающий роль внешнего фактора, ведет к рассмотрению обществ региона как объектов, а не субъектов политической активности, и потому нас не интересует.
В-третьих, эти события можно рассматривать через призму теорий неоколониализма — точка зрения, в российском академическом сообществе не пользующаяся какой-либо популярностью. Свергнутые режимы в таком случае оказываются внутренними колонизаторами, узурпировавшими власть и публичную сферу как таковую.
Первая и третья интерпретации позволяют выявить две ключевые проблемы всего последующего развития этих стран: демократия и институты, с одной стороны, и суверенитет — с другой. В то же время незавершенность процесса не позволяет пока что говорить о проблеме социально-экономической программы развития стран региона и о возможности обновления социального контракта. Две же указанные проблемы, как видно, прямо соотносятся со структурными слабостями модели арабской государственности: демократия и институты — с «множественностью государств»; а суверенитет — с дефицитом легитимности и незавершенностью нациестроительства.
Демократия и институты
Вне зависимости от того, какое представление протестовавшие в 2010-2011 годах имели о демократии, очевидным итогом протестов стало расширение политического участия во всех без исключения странах региона, по крайней мере, на первом этапе (201 1-2013 годы). И в этом отношении эти события можно рассматривать как естественное развитие процессов демократизации, начавшихся в 1970-е годы, и как попытку положить конец «арабскому эксепционализму». Вместе с тем столь же очевидно, что об ограниченной демократизации в собственном смысле слова речь здесь может идти только относительно Туниса, Марокко, отчасти Иордании, Египта и Алжира. Причем в последних двух случаях это утверждение спорно, поскольку, по мнению многих авторов, «июльская революция» 2013 года фактически вернула Египет к авторитаризму (правда, обновленному, с более широким, нежели прежде, политическим участием), а алжирские политические реформы имели скорее декоративный характер. Высочайший уровень абсентеизма на парламентских выборах 2012 года и президентских 2014 года в совокупности с 84%, набранными на последних тяжело больным А. Бутефликой, вряд ли свидетельствуют о демократизации. Неудачей в конечном счете окончился и национальный диалог в Бахрейне, свернутый к 2015 году (хотя ситуация может и измениться).
Вместе с тем в таких странах, как Ливия, Сирия и Йемен, расширение политического пространства обернулось полномасштабными гражданскими войнами и в случае Ливии, да и Йемена, — фактическим разрушением государственности.
В конечном счете можно видеть, что наиболее успешным процесс расширения политического участия оказался в тех странах, где и госинституты, и институты гражданского общества были одинаково хорошо развиты — прежде всего в Тунисе и Марокко. Причем если во втором двигателем демократизации выступил сам режим (как он пытался выступить и в Бахрейне, предложив программу реформ), то в Тунисе ключевую роль сыграло гражданское общество. В тех государствах, где гражданское общество было слабо по сравнению с институтами политической власти, последняя сумела быстро перехватить инициативу, затормозив процесс или обернув его вспять. Это относится к Египту, Алжиру, а также большинству монархий Залива, где вызов со стороны общества был довольно слабым. Характерно, что характер госинститутов — современные они или традиционные монархические — играл второстепенную роль, хотя монархии по природе своей и пользуются большей легитимностью, чем республики. Наконец, те страны, в которых институциональное развитие вообще было слабым, оказались близки к уничтожению государственности. Прежде всего это относится к Ливии, но также до некоторой степени и к Йемену, Ираку и Сирии.
В последних двух случаях симбиоз между институтами государственной власти и определенными этноконфессиональными группами (алавиты в Сирии, курды в Иракском Курдистане, шииты в Багдаде, а также сунниты в центральном Ираке, ставшие основой для ИГ) придавал борьбе за сохранение (в Сирии) или ревизии (в Ираке) государственности экзистенциальный характер. Кстати говоря, подобным образом могла бы сложиться ситуация и в Бахрейне, если бы конфликт между властью и оппозицией не был купирован (и если бы Бахрейн не был островом, что делало внешнее влияние более контролируемым). Вместе с тем в Ливии и Йемене, где основу системы политических отношений составлял постоянно менявшийся баланс между племенными, региональными, конфессиональными (в Йемене) и другими группами, государственность оказалась провальной.
Расширение политического участия, вне зависимости от того, происходило ли оно в институциональных рамках, как в Египте (в основном), Тунисе или Марокко, или же вне их — как в Ливии, в любом случае означало вовлечение в политику традиционных слоев общества, и соответственно традиционализацию политических отношений.
В тех случаях, когда этот процесс идет по «мягкому» сценарию — без разрушения институтов, — в перспективе он должен обернуться гармонизацией социально-политических отношений и повышением эффективности государства. Проще говоря, должна быть преодолена ситуация «множественности государств» — вместо пяти государств в одном в итоге мы должны получить единое государство — более традиционное в ценностном отношении, но более демократическое в институциональном.
Чисто теоретически повышение эффективности институтов в дальнейшем должно стать залогом социальной модернизации, либерализации общественных отношений и в конечном итоге снижения роли традиционализма.
Пожалуй, наиболее интересный пример в этом отношении сегодня демонстрирует Тунис, где становление институтов свободных выборов, реальной многопартийности, свободной прессы и т.д. создало условия для политического вовлечения гражданского общества. В результате многие социальные проблемы, ранее табуированные, оказались в центре общественных дискуссий — расизм, гендерное неравенство, права ЛГБТ, ответственность государства перед социально незащищенными слоями и т.д.
Однако такая активизация общественной жизни не помешала традиционализации политических отношений, в особенности на локальном уровне, где спустя десятилетия люди вновь вспомнили о межплеменных распрях, актуализировались локальные идентичности (в частности, чрезвычайно популярным стало требование возвращения доходов от экспорта природных ресурсов в местные региональные бюджеты), усилилась повседневная религиозность.
В тех же случаях, когда политический процесс развивается по жесткому сценарию, как в Ливии, Сирии или Йемене, расширение политического участия оборачивается разрушением или по меньшей мере деградацией государственности, в результате чего происходит полная традиционализация политической сферы. В зависимости от конкретной ситуации она может оборачиваться ростом трайбализма (как в Ливии), этноконфес- сионализма (как в Сирии) или же того и другого вместе (как в Йемене и Ираке). Политическая реальность этих стран находится в стадии полураспада, и даже в случае какого-либо прогресса в мирном урегулировании она будет переформатирована, причем традиционный элемент будет играть в ней большую роль, нежели раньше.
Суверенитет без суверенов
Если рассматривать трансформацию региона через призму концепций неоколониализма, то на первое место выступает проблема суверенитета.
С точки зрения сторонников такого подхода, получение независимости арабскими странами не привело к обретению ими полного суверенитета. Так или иначе, на протяжении всего XX века эти государства если и не были полностью лишены самостоятельности, то все же в значительной степени оставались объектами действий крупных внерегиональных держав — прежде всего США и СССР, в меньшей степени государств Европы, от которых они зависели в экономическом, военно-политическом и культурном отношениях, а также — в случае Палестины — Израиля, оккупировавшего палестинские территории в 1967 году.
Кроме того, как и в других регионах мира, в последние годы происходило размывание суверенитета государств региона в результате их включенности в процессы глобализации и регионализации, в том числе в региональные интеграционные проекты, наиболее значимым из которых был и остается Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Все это позволяет говорить о преимущественно внешнем характере суверенитета арабских стран в это время.
Впрочем, дело здесь даже не столько в особенностях положения арабских государств в мировой политической системе, сколько во внутриполитических системах самих этих государств, позволивших их критикам говорить об отчуждении режимов от народов и об узурпации ими суверенитета. Модернизированные правящие арабские режимы, выполнявшие по сути дела функцию прогрессоров, в таком случае предстают неоколонизаторами, проводившими антинародную политику, носителями чуждых обществу ценностей и моделей поведения, и действовавшими в интересах сил, находившихся за пределами государства (западного истеблишмента, к которому они, по сути, и принадлежали).
Вне зависимости от того, насколько справедливы были эти обвинения, мысль о том, что свергнутые режимы носили антинародный характер, были излишне вестернизированы, оторваны от корней и т.д., разделялась многими протестующими и значительной частью политических сил, претендовавших на власть в постреволюционный период (в частности, исламистов и ультралевых).
Расширение политического участия и последовавшая за ним традиционализация системы политических отношений в таком случае должны рассматриваться как процессы укрепления национального суверенитета, его перехода от относительно изолированной группы к более широким слоям населения. На практике такой переход означал частичное или полное распыление суверенитета или - в крайних случаях - ситуацию суверенитета без суверена.
В самом деле, если понимать суверенитет в духе К. Шмитта, как способность действовать в чрезвычайных обстоятельствах, то революция и «внутренняя деколонизация» привели к уничтожению реального носителя суверенитета — власть вернулась к своему источнику (народу), но обрела слишком много представителей. Если в случае с Тунисом это обернулось просто слабостью правительств и их неспособностью проводить непопулярные меры, то в случае Ливии это означало появление огромного количества центров силы (милиции, «Рассвет Ливии» в Триполи, гражданское правительство в Тобруке и генерал X. Хафтар, ИГ и др.).
Особый случай представляет здесь Египет, где «июльская революция» 2013 года вернула ситуацию к истокам, позволив преодолеть поляризацию общества (или по меньшей мере минимизировать ее политический эффект). Декларируемые экономические успехи режима А. ас-Сиси, необходимость противостояния вполне реальным угрозам безопасности и стремление к повышению легитимности и инклюзивности режима посредством электоральных процедур позволили ему консолидировать общество, став единственным реальным носителем суверенитета.
Впрочем, очевидная экономическая зависимость нового египетского режима от Эр-Рияда позволяет вновь говорить о наличии элемента внешнего суверенитета.
Вообще, усиление роли региональных акторов в мировой политике привело к тому, что такие страны, как Турция, Иран и Саудовская Аравия (а также в меньшей степени Катар и ОАЭ), попытались стать бенефециариями описанного процесса распыления суверенитетов, как посредством косвенного участия во внутриполитических процессах (через поддержку лояльных им сил — салафитских в случае с Саудовской Аравией, шиитских — в случае с Ираном, «Братьев-мусульман» в случае с Катаром и т.д.), так и посредством прямого вооруженного присутствия (Бахрейн, Йемен, Сирия).
Между тем кризис институтов и распыление суверенитета имели еще один неожиданный итог. Под сомнение оказалась поставлена территориальная целостность государств региона и их территориально-административное устройство, причем это касается не только таких стран, как Ливия, Сирия, Ирак или Йемен, о невозможности сохранить единство которых часто говорится прямо, но и таких вполне на первый взгляд благополучных государств, как Египет, Тунис, Саудовская Аравия и др.
В случаях Йемена, Сирии и Ливии регулярно озвучивающаяся идея федерализации скрывает под собой попытки местных властей и западных экспертов придумать модель сохранения государственности в ситуации ослабления или распада институтов (или — в случае Ливии — уничтожения системы личной власти, маскировавшей отсутствие институтов). Иракский опыт показал, что подобная стратегия имеет вполне определенные пределы — единство рыхлой федерации зависит от нахождения консенсуса между региональными элитами относительно разделения доступа к ресурсам страны, и, разумеется, от интересов третьих стран. В случае нарушения межрегионального баланса или изменения международной обстановки система оказывается чрезвычайно уязвимой. Однако в других случаях (Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Египет и др.) речь обыкновенно идет не о федерализации как таковой, но о децентрализации (ал-лямар- казийя) или других формах имплементации элементов федерализма в систему управления странами. При том, что формально децентрализация во всех этих странах является официальной государственной политикой, направленной на стимулирование развития локальных сообществ, в реальности она всегда выполняет разную роль.
В Ливане речь фактически идет о скрытой федерализации, направленной на сбалансирование интересов локализованных этноконфессиональных групп. Ливанский опыт в значительной степени был заимствован американцами при выстраивании новой иракской государственности.
В Алжире и особенно Марокко она служит средством авто- номизации отдельных областей страны — контролируемой Рабатом части Западной Сахары в Марокко и Кабилии в Алжире. При этом в обеих странах сама постановка вопроса о регионализации или федерализации представляется невозможной (в особенности в Алжире, где это рассматривается через призму берберского сепаратизма).
В Тунисе же вопрос о «дефаворизованных» регионах был поставлен на повестку дня революцией 2011 года и рассматривался в контексте обеспечения доступа элит этих регионов к власти и финансовым ресурсам страны.
Очевидно, что во всех случаях без исключения федералистские тенденции могут рассматриваться двумя прямо противоположными образами. С одной стороны, как стремление усовершенствовать политическую систему, создать более тонкие механизмы управления и тем самым повысить инклюзивность политической власти. Это особенно ярко видно в традиционно суперцентрализованном Египте, в новой конституции которого шесть статей посвящено проблемам децентрализации, полномочиям местных советов и т.п. (в конституции 1971 года таких статей было всего две). Укрепляя выборность местных властей и расширяя полномочия местных советов в административной и финансовой сфере, правительство не только вовлекает регионы в управленческие процессы, но и — по крайней мере — теоретически, стимулирует развитие гражданского общества и демократии в стране.
С другой же стороны, федералистские начинания могут рассматриваться как попытка центральной власти сохранить единство страны, найдя консенсус с региональными (зачастую иноэтническими или иноконфессиональными) элитами. В случае Ирака это выражено особенно четко.
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать:
- во-первых, наблюдаемый сегодня кризис государственности в арабских странах предопределен фундаментальными противоречиями ее модели: незавершенностью нациестроительства, дефицитом легитимности государств, фрагментированностью общества и дисбалансами институционального развития;
- во-вторых, наиболее значимыми проявлениями этого кризиса являются деградация институтов, ретрадиционализация политического пространства, распыление суверенитета, ревизия границ и административно-территориального устройства;
- в-третьих, фундаментальная слабость модели поможет привести и к другим проявлениям кризисности даже в тех странах, которые пока что кажутся стабильными.
ИГ — альтернативная государственность?
В последний год тема альтернативной модели государственности для Ближневосточного региона стала чрезвычайно популярной. При том, что сами по себе идеи разнообразных альтернативных проектов на протяжении XX века появлялись довольно часто (в связи с созданием Палестинского государства, курдской проблемой, третьей мировой теорией М. Каддафи и др.), все же они занимали обычно маргинальное положение и почти никогда не доходили до воплощения в жизнь (вспомним идею демократического конфедерализма А. Оджалана). Однако стремительное усиление «Исламского государства», его экзотизм, кажется, создают впечатление внезапного появления реальной альтернативы.
Образовавшееся в 2006 году в результате слияния одиннадцати отпочковавшихся от иракской «Аль-Каиды» ИГ до 2013 года было малоизвестно — численный состав организации насчитывал в первые годы всего несколько тысяч человек17, в основном бывших солдат и офицеров из армии Саддама Хусейна. Деятельность организации в то время была направлена против американцев и нового руководства страны, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из политического пространства баасистов и всю старую элиту.
Радикальная трансформация ординарной джихадистской группировки была связана, во-первых, с разгоранием сирийского конфликта, дестабилизировавшего обстановку в Ираке, а во-вторых, с приходом к власти в ИГ Абу Бакра аль-Багдади весной 2011 года, взявшего курс на самофинансирование организации посредством грабежей, экспроприации имущества «неверных», рэкета, контрабанды и т.д.
Широкую известность деятельность ИГ приобрела летом 2014 года, когда бойцы организации захватили Мосул и начали активное наступление в Ираке и Сирии.
На сегодняшний день ИГ контролирует территорию в Сирии и Ираке, сравнимую по площади с Великобританией и с населением до 8 миллионов человек. В рядах ИГ сражается несколько десятков тысяч человек (по некоторым источникам — 80-100 тысяч) из самых разных стран мира, в том числе более 1700 человек из России (по неофициальным данным — значительно больше).
Понятно, что вопрос о характере ИГ до сих пор остается открытым, однако некоторые предпосылки для рассмотрения его именно в качестве государства, а не просто как нового издания джихадистских организаций, существуют, и по этому поводу сегодня уже сказано и написано немало. В контексте настоящего текста имеет смысл задаться только двумя вопросами: 1) что собой представляет проект, предлагаемый ИГ (если он есть), и 2) может ли ИГ решить проблему нациестроительства, преодолеть фрагментированность социумов и гармонизировать институциональное развитие?
Впрочем, даже если оно не сможет решить этих проблем, однако окажется успешным хотя бы в преодолении видимых проявлений кризиса государственности, то его уже можно будет определить как временно успешный проект, несмотря на все его варварство и жестокость.
Проект ИГ
Выдвигая собственный проект государствостроительства, ИГ продолжает салафитскую традицию призыва мусульманской общины к возвращению к временам праведных халифов и пророка Мухаммада. При том, что эта общая салафитская идея всегда пользовалась определенной популярностью в арабо-мусульманском мире, различные мыслители и религиозно-политические деятели интерпретировали ее совершенно по-разному.
В отличие от «Братьев-мусульман», тунисской «Ан-Нахды», ХАМАСа и других исламистских организаций, пытающихся в своей идеологии совместить исламские ценности с идеями национализма и принципами демократии, ИГ, как и породившая его «Аль-Каида», занимает принципиально антимодернистские и антизападные позиции. Соответственно, анализ проекта, выдвигаемого ИГ, предполагает обращение к модели раннемусульманской государственности как таковой и выделение основных ее элементов.
Проблема здесь состоит в том, что государственность в применении к арабо-мусульманской политической истории и культуре может пониматься двояко.
С одной стороны, речь может идти о реальной государственности, существовавшей в регионе в доколониальный период.
Такая «реальная» государственность в арабо-мусульманском мире имела двоякое происхождение — с одной стороны, она была порождена религиозным призывом пророка Мухаммада, с другой — арабо-мусульманскими завоеваниями VII-VIII веков и необходимостью установления контроля над завоеванными территориями и организации управления. Амбивалентность происхождения сказывалась и на структуре арабо-мусульманского государства, и на источниках его легитимности, и на его политической идентичности. С одной стороны, это было исламское государство для мусульман, основные институты которого были установлены пророком Мухаммадом и праведными халифами, власть халифа имела религиозное обоснование, а немусульманское население (в основном иудеи и христиане), считаясь «покровительствуемым», обладало собственной юрисдикцией и облагалось особыми налогами. С другой стороны, это было этнократическое государство - при Омейядах - арабское, при Аббасидах арабо-персидское и арабо-тюркское и т.д. Его правители активно использовали историческую мифологию для обоснования своего права на престол, опирались на трайбалистские и этнические группы в осуществлении власти и т.д.
Помимо сочетания религиозно-идеологического и этно- племенного элементов для реальной арабо-мусульманской государственности было характерно активное заимствование и преобразование практик управления покоренных и соседних народов (прежде всего Византии и Ирана), их переосмысление, постепенное усложнение политической архитектуры.
Наконец, эта реальная государственность отличалась, в об- щем-то, светским характером институтов (насколько о них можно говорить) и методов управления.
Последний тезис, конечно, не означает секулярности государства, однако он означает эмансипацию реальной политической власти от ее религиозных истоков. Примерно с X века (со времен Бувайхидов) аббасидский халиф сохранил за собой исключительную функцию легитимизации власти реальных правителей — сначала бувайхидских умара' ал-умара', а затем сельджукских султанов.
Вместе с тем речь может идти и о концепции исламской государственности, к которой, собственно, и обращается ИГ.
Развивавшаяся в трудах мусульманских правоведов, эта концепция, в основной своей части, не была направлена на описание существовавшей политической реальности и из этой реальности не проистекала. Для создававших ее мыслителей дело заключалось не в том, чтобы научить правителя править лучше (для того существовал жанр «княжеских зерцал»), и не в том, чтобы объяснить феномен власти, которым интересовались философы, а в том, чтобы описать, каким должно быть праведное государство, исходя из священных текстов ислама. Не случайно ключевой труд, посвященный исламской государственности, — «Ал-ахкам ас-султанийа» («Властные установления») ал-Маварди был написан только в XI веке, когда никакого единого халифата уже не существовало.
Представляется, что сегодня можно выделить несколько основных элементов концепции исламской государственности, оказывающих наибольшее влияние на проект, выдвигаемый ИГ, и объясняющих его отличия от идеи национального государства — умма, имам, даула, а также бай'а и джихад.
Прежде всего ИГИЛ — это не национальное государство, потому что умма в ее средневековом понимании — это не нация. Как отмечает палестино-египетский мыслитель Тамим ал-Баргути (Tamim al-Bargouti), «физическое бытие индивидуумов называется уммой, если эти индивидуумы представляют себя коллективом и если представление это ведет к тому, что они делают что-то иначе, чем все остальные». Таким образом, в отличие от нации в ее «биологическом» понимании, умма не является природным феноменом. Однако она также не является и воображаемым сообществом, появившимся в результате социально-экономического развития общества, — в отличие от «социального» понимания нации. Предполагающая духовное или идейное родство умма не может быть определена ни территорией своего расселения, ни своей многочисленностью (пророк Ибрахим изначально сам по себе составлял умму), ни своей политической организацией. Если национальное чувство требует обретения государственности, то умма нуждается в политическом оформлении исключительно из практической надобности, однако отсутствие государства не ведет к ее деградации или исчезновению.
Однако умма, кроме того, — это община, следующая за своим имамом, функция которого принципиальным образом отличается от функции руководителя национального государства: «Имамат существует как замещение (ли-хилафат) пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», — писал в XI веке ал-Маварди.
Имам не является ни сувереном, ни законодателем, ни исполнителем, ни судьей. Он, скорее, координатор, призванный следить за исполнением признанных сообществом богословов и правоведов интерпретациями священных текстов, администратор, а также учитель и пример для мусульман, следующих за ним по пути веры и таким образом и формирующих умму. Именно поэтому отсутствие имама ведет к ослаблению и неполноте уммы.
В политическом отношении ал-Маварди выделяет десять основных обязанностей имама, и так или иначе этот перечень соответствует всей суннитской традиции. Большинство из них, хотя и требуют политических действий, имеют религиозное обоснование или назначение: обеспечение религиозной законности, применение установленных Аллахом наказаний для защиты прав верующих, защита Обители ислама (Дар ал-ислам), борьба с отказавшимися принять ислам, взимание налогов (по установленным шариатом нормам), назначение на посты верующих и законопослушных людей, собственноручное управление уммой и защита веры. Помимо них есть две чисто административные обязанности — обеспечение приграничных областей и благоразумное определение доходов и расходов казны; и одна — чисто религиозная: поддержание религии.
В суннитской традиции имам не может быть избран, однако он может получить власть либо по прямому указанию предшественника, либо по согласованному решению сообщества религиозных экспертов, а также захватить ее силой.
Хотя имам и является руководителем не государства — даула, а уммы, действует он все же в рамках первого.
Однако ИГ не является национальным государством еще и потому, что даула в его средневековом понимании — это все же не совсем государство. Даула есть мирская организация уммы, от нее получающая свою легитимность. В классический период истории ислама, к которому и обращен творческий дух ИГ, даула означала прежде всего династию, но никогда не территорию. Даула — образование изначально временное и довольно гибкое, оно нетерриториально, а суверенитет не является его характеристикой, потому что, принадлежа Аллаху, он делегируется Аллахом умме, и только от уммы он передается имаму, а от него — правителям более низкого ранга. В результате даула представляет собой некую политию, в принципе многоуровневую и способную организовываться по сетевому принципу. Так, например, халифат Аббасидов представлял собой даула, но точно также даула представляли собой и входившие в него царства Тулунидов, Тахиридов и др., а Волжская Булгария, не имевшая с ним практически никаких реальных связей, рассматривалась Багдадом как часть этого государства, поскольку именно абба- сидский халиф был источником ее легитимности.
В современном мире даула не узурпирована ИГ — в определенном смысле и контролируемые сегодня Хизбаллой южные районы Ливана, и контролируемые ХАМАС территории Палестины, и контролируемые кочевыми племенами внутренние пространства «большой» Сахары также представляют собой даула в средневековом понимании этого термина. Обладая значительной политической самостоятельностью, они, разумеется, ослабляют национальную государственность в регионе.
Чрезвычайно важным элементом государственности ИГ является бай'а — клятва на верность, дающаяся отдельными социальными группами и индивидуумами имаму. Именно посредством бай'а обеспечивается связь между уммой и имамом и его реальный суверенитет. Институт бай'а,кроме того, существует и в современных арабских монархиях, обеспечивая традиционную легитимность правителей.
Наконец, что касается джихада, то, согласно унаследованным от «Аль-Каиды» Двуречья представлениям, описанным в их известном документе «Наше кредо и наша программа» и выдержанным в радикальной салафитской традиции, он понимается как вооруженная борьба с людьми, отказавшимися принять ислам, является личной обязанностью каждого мусульманина и одним из столпов веры, и, соответственно, отказ от его ведения ведет к такфиру — обвинению в неверии.
Таким образом, предлагаемое ИГ политическое устройство должно быть лишено некоторых слабостей существующей модели государственности a priori. Так, теоретически (но не практически) у «Исламского государства» не может быть проблем с незавершенностью проекта нациестроительства, потому что оно отрицает саму идею нации. Не может у него быть и проблем с дефицитом легитимности и суверенитетом, потому что легитимность его — от Аллаха, а суверенитет распространяется на всю мусульманскую умму. Что же касается институционального развития, фрагментированности общества и всего остального, то это уже вопросы не религиозной теории, а политической практики.
Реализация модели
Стремясь установить твердый контроль над территориями, ИГ вынуждено обеспечивать лояльность местного населения и соответственно вести активную социальную деятельность (выплата зарплат, благотворительные акции, строительство объектов инфраструктуры, обеспечение правопорядка и т.д.). Тот факт, что ИГ приносит с собой пусть и очень жестокий, пусть и совершенно извращенный, но тем не менее понятный порядок, основывающийся на известных правилах, обеспечивает ему поддержку населения (выжившей его части), уставшего от безвластия и хаоса войны.
Социальная активность заставляет ИГ совершенствовать структуру и методы управления. Так, аль-Багдади был провозглашен халифом, у него есть два заместителя, ему подчиняется кабинет министров и правители двенадцати гуверноратов.
Активное участие в рядах ИГ выходцев из саддамовской элиты позволяет руководству организации использовать их управленческий опыт.
Вместе с тем в управленческой структуре значительное место занимают и религиозные элементы: Консультативный совет (шура), проверяющий решения руководства на их соответствие нормам шариата, а также шариатский суд и совет муфтиев.
Многие вполне современные институты государственной власти в ИГ получают религиозную интерпретацию — так, например, социальные службы ИГ управляются Департаментом мусульманских услуг и т.д.
В конечном счете, можно констатировать, что в процессе своего институционального оформления в качестве государства ИГ синтезирует элементы национального государства и исламской архаики, что придает ему неомодернистский характер.
Если в институциональном отношении такой синтез и позволяет выстроить некое подобие реальной государственности, то в других он создает новые противоречия.
Так, идея территориальной государственности (в Сирии и Ираке) естественным образом сочетается в ИГ с детерриториальностью даула, ведь многие джихадистские группировки по всему миру объявили себя подданными халифа аль-Багдади и филиалами ИГ И хотя характер отношений между сиро-иракским ИГ и его ответвлениями по всему миру не вполне ясны, они, тем не менее, могут быть описаны и в парадигме отношений умма-даула, и совершенно по-западному — как франчайзинг.
Двойственность территориальной идентичности ИГ ведет в итоге к расколу организации на прагматиков, ориентированных на укрепление политического образования на ограниченной территории, и романтиков, стремящихся к бесконечной экспансии. Впрочем, этот раскол вряд ли может рассматриваться как фактор ослабления ИГ, потому что у организации есть очевидная возможность экспорта романтиков в филиалы ИГ по всему миру.
Столь же причудливо сочетается архаика и модерн в решении проблемы нациестроительства. С одной стороны, исламский эгалитаризм, идея единства уммы заставляет ИГ способствовать преодолению этно-племенной гетерогенности общества на контролируемых им территориях (разумеется, после уничтожения всех неверных), с другой стороны, решение проблемы через конфессионализм создает новые линии раскола.
Все эти причудливые переплетения вполне на постмодернистский манер дополняются активной информационной деятельностью ИГ, направленной на распространение влияния организации в мире.
Таким образом, «Исламскому государству» сегодня удается пока что решать проблему с внешними проявлениями кризиса государственности — восстановить институты и обновить контракт между обществом и государством, утвердить свой суверенитет над ограниченной территорией и решить проблему границ. Вместе с тем очевидно и то, что ни одна из этих проблем не решена полностью, и не факт, что может быть решена в рамках выстраиваемой модели.
Так, созданные институты и экономический базис социального контракта при всей своей экзотичности могут быть решением на время «джихада» и постоянной экспансии, однако для поддержания жизнедеятельности нормального государства их придется пересматривать. И здесь, конечно, есть определенная ирония истории, потому что в этом отношении игиловцам придется повторить путь Омейядов и вообще раннеисламской государственности, создание которой именно как государственности, а не как завоевательной политии было связано как раз с прекращением экспансии во времена халифа Абд ал-Малика. В тот раз, как известно, неспособность перестроиться привела в конечном счете к Аббасидской революции и затем к дроблению Халифата.
Точно так же не вполне ясно сегодня практическое решение вопроса о суверенитете — бай'а все же является довольно слабым инструментом его укрепления для частично модернизированных обществ. Понятно, что на первый взгляд властям ИГ сегодня удается контролировать определенную (и довольно большую) территорию, однако насколько глубоко и прочно они ее контролируют, неизвестно. Тем более сомнительно утверждение о суверенитете, учитывая непризнанность государства со стороны мирового сообщества.
Наконец, что касается границ и территориально-административного устройства, то, конечно, сетевые структуры, франчайзинговые системы, внетерриториальность — все это звучит очень романтично. Однако на практике говорить об «Исламском государстве» в собственном смысле слова можно только на сиро-иракской территории, что же до остальных, то там речь идет только об определенном брендировании, под которым каждый раз скрывается уникальная ситуация. Так, например, в Ливии «Исламское государство» в сущности своей представляет удобную форму самопрезентации и консолидации ряда малых племен. Да и единство сиро-иракской зоны тоже вызывает множество сомнений, в том числе из-за иракского доминирования в руководящих структурах ИГ
Наконец, если смотреть на глубинные проблемы государственности, то с их решением у ИГ дело обстоит еще хуже.
Идея единой исламской нации, конечно, поэтична, однако она может быть привлекательной лишь для некоторого количества пассионариев, в основном из западной исламской псевдоуммы23, но она совершенно не учитывает существующих региональных идентичностей, которые в реальных социальных практиках обычно оказываются важнее конфессиональных. Кроме того, что касается собственно сиро-иракского населения, то оно вынуждено присоединиться к ИГ в силу ужасающих условий военного существования и просто отсутствия выбора. Точно так же и молодежь из многих арабских стран вступает в ИГ, руководствуясь не религиозными идеями как таковыми, а из-за разочарованности в собственных государствах. «Здесь нет справедливости, нет свободы, нет будущего» — такие слова можно услышать от молодых людей бедняцких районов Туниса, решивших присоединиться к ИГ, где все это, с их точки зрения, есть. Свобода и справедливость в этом дискурсе понимаются специфически — как отсутствие унижений со стороны государства, как неотчужденность от него.
Таким образом, этим молодым людям представляется, что ИГ дает возможность преодоления общественно-политической фраг- ментированности — его элиты не узурпируют власть, они аутентичны. Однако на практике эта возможность пока что достигается исключительно репрессиями и геноцидом социальных групп, а потребность в развитии, в укреплении суверенитета (если ИГ сохранится и при других «если») и институтов будет диктовать и укрепление репрессивного аппарата, оторванного от общества в еще большей мере, чем в других арабских странах. Так что и с преодолением фрагментированности, очевидно, возникнут проблемы.
Наконец, что касается институтов, то пока что на территории ИГ наблюдается создание институтов власти при полном вакууме институтов гражданских. Такая ситуация может сохраняться исключительно на время войны.
И тем не менее, несмотря на всю очевидную слабость ИГ как проекта государствостроительства, нельзя отрицать того факта, что для определенного числа жителей государств региона он имеет особую привлекательность. По всей видимости, привлекательность эта связана прежде всего не с конфессиональным характером государства как таковым и, конечно, не с жестокостью его политики, а именно с упомянутой выше кажущейся аутентичностью ИГ
Описанная в настоящем исследовании картина выглядит неутешительной: помимо глубокого системного кризиса национальной государственности в арабском мире мы наблюдаем возникновение некоего альтернативного проекта, который, покоясь на религиозных основаниях, не вписывается в современную мирополитическую систему, угрожает существующим государствам и вместе с тем неспособен решить ключевые проблемы местных обществ.
Может ли этот пессимистический тренд в развитии арабского мира быть преодолен? Вероятно, в длительной перспективе, да.
Помимо военно-политического решения проблемы ИГ (в том числе через предложение привлекательной альтернативы иракским суннитам) и реконструкции государственности в сироиракской зоне это потребует от международного сообщества, региональных игроков и самих государств принятия ряда мер. Очевидно, что они должны быть направлены на укрепление и повышение эффективности институтов государственной власти и гражданского общества, гармонизацию элементов традиции и модерна в ценностно-политическом пространстве стран, поэтапную децентрализацию власти при укреплении национального суверенитета, отказ от ревизии существующих границ и т.д.
Очевидна, кроме того, необходимость принятия этих мер не только (и не столько) в уже ослабленных государствах, где главной проблемой становится вообще реконструкция институтов, а в тех странах, которые остаются пока что стабильными и могут претендовать на региональное лидерство.
Опубликовано в "Россия в глобальной политике": http://www.globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v-arabskom-mire-18043
 Никогда еще тема Саудовской Аравии не привлекала к себе такого внимания, как во время состоявшегося в начале октября 2017 г. первого в истории двух стран визита в Россию саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. О серьезности намерений короля свидетельствовал состав и численность сопровождавшей его свиты более тысячи человек, включая министров, глав госкорпораций, крупнейших банков и частных фирм. Результатом встреч и переговоров стали десятки соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании в самых различных областях. Важнейший политический итог визита договоренность глав России и Саудовской Аравии развивать и укреплять отношения как на двустороннем, так и на региональном и международном уровнях.
Никогда еще тема Саудовской Аравии не привлекала к себе такого внимания, как во время состоявшегося в начале октября 2017 г. первого в истории двух стран визита в Россию саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. О серьезности намерений короля свидетельствовал состав и численность сопровождавшей его свиты более тысячи человек, включая министров, глав госкорпораций, крупнейших банков и частных фирм. Результатом встреч и переговоров стали десятки соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании в самых различных областях. Важнейший политический итог визита договоренность глав России и Саудовской Аравии развивать и укреплять отношения как на двустороннем, так и на региональном и международном уровнях.
Российско-саудовский саммит в Москве можно рассматривать как поворотный пункт в непростой истории двусторонних отношений. Почему это произошло именно сегодня? Ответ на этот вопрос в значительной мере связан с внутренней ситуацией в Королевстве, вставшем на путь радикальных преобразований.
Документом, определившим новое направление и цели социально-политического и даже культурно-нравственного развития, стало «Видение 2030». Эта грандиозная программа всеобъемлющих реформ сразу оказалась в центре общественной жизни, став основополагающим документом и своего рода «дорожной картой», в соответствии с которой власть заявила о намерении строить всю жизнь в Королевстве.
Что же представляет собой «Видение 2030», или, как его официально называют, «Стратегия Королевства Саудовская Аравия 2030»?
Инициатором радикальных преобразований выступил саудовский монарх король Салман бен Абдель Азиз. «С того момента, как я был удостоен чести управлять государством, я поставил своей главной целью комплексное развитие, использование возможностей нашей страны и ее потенциала, имеющихся в ней богатств и ресурсов и даже географического расположения для создания наилучшего будущего для родины и ее сынов на основе уважения шариата, сохранения чистой веры, традиций нашего общества», пишет он во вступлении*.
По сути, «Видение 2030» это продолжение реформ, начатых королем Салманом сразу после восшествия на трон в январе 2015 г. В их числе волевое изменение правил престолонаследия, приведшее к руководству страны поколение внуков короля-основателя Абдель Азиза, сокращение государственных субсидий, решение о введении впервые в истории страны налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на табак и другие вредные для здоровья товары, а также сокращение правительственных расходов, ограничение темпов роста заработной платы и других видов материального поощрения госслужащих.
Уже эти шаги свидетельствовали об отходе от экономической модели, существовавшей на протяжении нескольких десятилетий и основанной на патерналистских принципах субсидирования государством нереально низких цен на бензин, воду и электроэнергию. По этой причине потери бюджета исчислялись десятками миллиардов долларов.
Весьма серьезный удар по казне Королевства был нанесен в результате сохранявшихся в 20142016 гг. низких цен на нефть: убытки бюджета КСА достигли $97,6 млрд в 2015 г. и $79,2 млрд в 2016-м. В 2017 г. запланировано его сокращение до $52 млрд [1].
Руководство Саудовской Аравии пришло к выводу, что доходы от экспорта нефти уже не могут служить надежной основой устойчивого экономического развития. Результатом осознания этой истины стало указание короля Салмана государственному Совету по экономике и развитию разработать проект реформ.
Главой Совета был и остается сын и единомышленник короля Мухаммед бин Салман*, возглавивший работу по формированию принципиально новой модели развития Королевства.
СУТЬ «ВИДЕНИЯ 2030»
Изложенная в документе стратегия основывается на трех основных направлениях:
формирование динамичного общества как важнейшее условие для создания прочной основы экономического развития («Стратегия Королевства Саудовская Аравия 2030», с. 14);
создание процветающей экономики в качестве «средства для создания благоприятных условий для каждого» (Стратегия.., с. 15);
развитие государственного сектора путем создания «эффективного, прозрачного, подотчетного, инициативного правительства, достигающего высоких результатов» (Стратегия.., с. 15).
Залог успеха стратегии ее авторы видят в международном статусе Саудовской Аравии, являющейся, по их мнению, «сердцем арабского и исламского мира» благодаря находящимся на ее территории святыням в Мекке и Медине. К другим факторам успеха они относят «колоссальный инвестиционный потенциал», а также решимость руководства превратить Королевство «в глобальный торговый узел и врата мира» (Стратегия.., с. 5).
Основной упор сделан на диверсификацию экономики, увеличение производственного потенциала, повышение доли частного сектора в хозяйственной жизни.
Новое, набирающее силу направление добыча и переработка полезных ископаемых. Оно основано на наличии в стране таких природных ресурсов, как бокситы, фосфаты, золото, медь, уран (6%
мировых запасов) и других. Ожидается, что уже к 2020 г. в этом секторе будет создано 90 тыс. новых рабочих мест, а доход достигнет $26 млрд [2].
Наряду с этим, правительство намерено поддерживать другие перспективные отрасли экономики и делать все необходимое для увеличения доли отечественного производителя, проводя политику импортозамещения.
В отличие от предшествовавших десятилетий, когда Королевство было чистым импортером машин и оборудования, принято решение сделать обязательной практикой включение в импортные контракты статьи о налаживании сборочного производства на территории Королевства. Это требование распространяется на все отрасли, включая энергетическую и военно-промышленную.
Поставлена задача удвоить добычу газа и создать общенациональную сеть по его доставке в различные районы страны.
Основные отрасли промышленности, которые подлежат развитию в первую очередь, наряду с горнодобывающей, автомобильная, сталелитейная, алюминиевая, фармацевтическая и туристическая.
Важная роль в Стратегии отводится созданию отечественного военно-промышленного комплекса. С 2014 г. Саудовская Аравия, по данным британской компании IHS Jane’s, стала крупнейшим импортером оружия в мире [3]. Из огромных военных затрат пока только 2% идут отечественному производителю. В этой связи поставлена задача к 2030 г. более 50% военного оборудования производить внутри страны.
Энергичные усилия предполагается продолжить в области развития возобновляемых источников энергии с учетом того, что к 2030 г. потребление электричества в Королевстве увеличится втрое. Предполагается, что уже к 2023 г. до 10% всей потребляемой в стране электроэнергии, т.е. около 10 ГВт, будут вырабатываться на объектах альтернативной энергетики [4].
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Одной из важнейших задач в деле преобразования экономики авторы документа считают максимизацию инвестиционного потенциала путем приватизации части государственного сектора для создания новых статей доходов бюджета.
Этим целям, в частности, должна послужить частичная 5%-ная приватизация в 2018 г. национальной нефтегазовой корпорации Saudi Aramco и передача полученных средств Суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии. Предполагается, что благодаря этому он должен стать самым большим в истории инвестиционным фондом с капиталом $2 трлн. Фонд призван оказывать содействие в создании новых стратегически важных секторов, требующих особого финансирования.
* В июне 2017 г. королевским декретом Мухаммед бин Салман назначен на должность наследного принца, сохранив за собой пост министра обороны (прим. авт.).
В соответствии с Программой стратегического трансформирования, компания Saudi Aramco будет превращена в глобальный промышленный конгломерат, который станет обеспечивать индустриализацию страны в целом.
Доля частного сектора в ВВП, составляющая на сегодняшний день 40%, должна быть значительно увеличена. Для этого будут поощряться инновации, конкуренция и устраняться препятствия, в т.ч. и законодательные, мешающие частному сектору играть более важную роль в развитии экономики.
Интересно, что максимизация инвестиционного потенциала предусматривает спонсирование Королевством высокотехнологичных разработок в различных странах мира. Это может представить практический интерес и для российских компаний.
ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Фактором, способствующим вступлению Саудовской Аравии в новую фазу индустриализации, является ее транзитный потенциал, обусловленный стратегическим положением Королевства на пересечении важнейших торговых путей между Азией, Европой и Африкой в сочетании с обилием энергетических ресурсов и развитой логистикой. И авторы Стратегии намерены им воспользоваться путем создания на территории Королевства регионального логистического центра.
ИНТЕГРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Обладая самой большой экономикой на Ближнем Востоке и ВВП, составляющим 2,4 трлн саудовских риалов ($640 млрд), Саудовская Аравия намерена укреплять двусторонние связи и экономическую интеграцию с другими странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Следует, однако, принять во внимание, что возникший недавно кризис в отношениях между Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном с одной стороны, и Катаром с другой, может существенно затормозить интеграционные процессы.
Еще одна инновация создание особых экономических зон в различных районах страны, к которым будет применяться особое законодательство.
Главными задачами в области экономики «Видение 2030» являются:
повышение доли доходов, не связанных с нефтью, с нынешних $43,4 млрд до $266,6 млрд в год;
увеличение доли частного сектора в ВВП с 40% до 65%;
повышение с 40% до 75% доли отечественного капитала в нефтегазовом секторе;
увеличение активов Суверенного фонда Саудовской Аравии с $160 млрд до $1,866 трлн;
наращение доли прямых иностранных инвестиций с 3,8% до среднего мирового показателя 5,7%;
поднятие с 19-го на 15-е место в рейтинге крупнейших экономик мира (Стратегия.., c. 41, 42, 49).
Если правильность поставленных целей не вызывает особых сомнений, то реальность их достижения в поставленные сроки остается под вопросом. Слишком многое зависит от того, насколько гладко и бесконфликтно будут идти реформы внутри страны, и насколько им будет благоприятствовать весьма непростая обстановка как на Ближнем Востоке, так и в мире, в целом. Вместе с тем, авторы оставляют за собой право корректировать темп и содержание реформ, чем, по недавним сообщениям саудовских СМИ, они вскоре намерены воспользоваться.
ВЕРНОСТЬ ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ
В документе особо отмечается, что, как и прежде, для Саудовской Аравии «принципы ислама являются основой для реализации стратегии реформ», а «ценности умеренности, терпимости, совершенства, дисциплины, справедливости и прозрачности послужат фундаментом успеха». Ислам и его учение «остаются стилем жизни, основой всех законов, решений, действий и целей» (Стратегия.., c. 16).
Как следствие этого, Королевство будет и впредь прилагать все усилия, чтобы в полной мере выполнять «почетную обязанность» принимать у себя мусульман со всего мира, приезжающих на хадж и малый хадж умру.
За последние 10 лет число паломников, посещающих святые места в Мекке и Медине, как указывается в документе, утроилось и достигло 8 млн. Королевство обязуется увеличить этот показатель до 15 млн человек к 2020 г. и до 30 млн к 2030 г. (Стратегия.., с. 16, 18).
Тем самым намечается достичь сразу две цели еще более укрепить позиции Королевства как «духовного лидера мусульманского мира» и центра исламской цивилизации и существенно увеличить финансовые поступления в бюджет Королевства.
СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Несмотря на то, что уровень благосостояния в Саудовской Аравии достаточно высок, в Королевстве есть и непростые социальные проблемы. Самая острая из них безработица, прежде всего среди молодежи, особенно если учесть, что около 70% населения составляют люди до 30 лет. Поэтому судьба преобразований зависит, прежде всего, от того, какую позицию займет большая часть молодежи, удастся ли руководству страны превратить ее в основную движущую силу реформ.
Серьезные резервы кроются и в привлечении к созидательному труду саудовских женщин, большинство из которых остаются сегодня дома. По данным Генерального управления по статистике КСА за вторую половину 2016 г., из 21,5 млн коренного населения Королевства 5,8 млн саудовских женщин старше 15-ти лет все еще оставались незанятыми [5].
Согласно «Видению 2030», ключом к скорейшему решению проблем занятости должно стать малое и среднее предпринимательство, развитию которого руководство страны намерено оказывать всяческую поддержку финансовую, юридическую и административную.
Наиболее важными целями к 2030 г. в социальной области считаются:
снижение уровня безработицы с 11,6% до 7%;
увеличение вклада малых и средних предприятий в ВВП с 20% до 35%;
увеличение количества женщин на рынке труда с 22% до 30%;
повышение средней продолжительности жизни с нынешних 74 до 80 лет (Стратегия.., с. 35).
ИЗМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
Следует отметить, что, к чести его авторов, «Видение 2030» не сводится к одним лишь экономическим аспектам, но учитывает специфику и охватывает практически все стороны жизни саудовского общества. Авторы отдают себе отчет в том, что невозможно изменить устаревшую экономическую модель, не меняя одновременно психологию и менталитет людей, их жизненный уклад, и даже чувство времени. Они понимают, что население должно не только принять реформы, но и активно участвовать в их осуществлении.
Об этом свидетельствуют разделы, посвященные изменениям национального самосознания, воспитания нации в духе патриотизма.
«Сегодня, когда мы столкнулись с новыми проблемами и вызовами, говорится в документе, требуется выполнение новых функций, и требуются люди, способные принять на себя ответственность... Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. ... Мы будем совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными членами общества...» (Стратегия.., с. 56-57).
Надо, однако, признать, что эти призывы настолько актуальны, насколько и трудновыполнимы, особенно, если принять во внимание, как тернист путь, который предстоит пройти саудовскому обществу, привыкшему жить по другим «практикам».
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НА СЛУЖБЕ «ВИДЕНИЯ 2030»
На службу реформам поставлена и внешняя политика. Тем более что развивать экономику правительство Саудовской Аравии намеревается на основе самых передовых технологий наиболее развитых стран, прежде всего, США.
Эр-Рияд и Вашингтон договорились разработать конкретные программы для максимально полного использования возможностей, появившихся в связи с реализацией «Видения 2030». Во время визита Дональда Трампа в Саудовскую
Аравию 20-21 мая 2017 г. было объявлено, что в ближайшие годы общая сумма инвестиций в проекты в обеих странах должна составить $380 млрд. При этом Саудовская Аравия выразила готовность вложить в американскую экономику около $40 млрд [7].
Результативным оказалось и официальное турне короля Салмана в марте 2017 г. в Малайзию, Индонезию, Японию и Китай. Подписанные в ходе визитов соглашения предусматривают более глубокое вовлечение Саудовской Аравии в нефтепереработку и нефтехимию в регионе АТР. Помимо всего прочего, это может положительно сказаться при оценке капитализации Saudi Aramco во время предстоящего в 2018 г. самого крупного в мире IPO.
Наиболее продуктивным стал визит короля в Китай, являющийся крупнейшим торгово-экономическим партнером Саудовской Аравии. В 2016 г. товарооборот между двумя странами составил $42,36 млрд (Arab News, 08.03.2017). Подписанные контракты на сумму около $65 млрд предусматривают строительство энергетических, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, производственных и других объектов в обеих странах [8].
Что касается России, то объем торгово-экономических связей между нашими странами пока несопоставим с объемами связей КСА с США и Китаем. Перспективы взрывного развития отношений РФ-КСА эксперты связывают с состоявшимся в октябре 2017 г. визитом короля Салмана в Россию. Между тем, востребованность курса на укрепление связей с РФ подтвердили результаты недавнего опроса, проведенного агентством ASDA’A Burson-Marsteller. Они показали, что в глазах саудовской молодежи Россия заняла место США в качестве главного союзника Саудовской Аравии на мировой арене: в 2017 г. симпатии к России, по сравнению с 2016 г., выросли на 12% с 9% до 21%, тогда как численность тех, кто таковым считает США, сократилась на 8% с 25% до 17% [9] (The 9th annual ASDA’A Burson-Marsteller Arab Youth Survey 2017. Top 10 Findings).
РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКСПЕРТОВ
Обнародованное год назад «Видение 2030» всколыхнуло общество, породив у людей надежды на более активную, насыщенную позитивными сдвигами жизнь, а у незанятой молодежи и женщин на получение рабочих мест и достойный заработок.
За рубежом позитивную оценку реформам не раз давал Международный валютный фонд, назвавший их в начале мая 2017 г. «мудрыми» [10].
Приветствовали «Видение 2030» и большинство аналитиков, выразивших надежду, что реформы сделают саудовскую экономику более динамичной в долгосрочной перспективе. Некоторые из них даже пришли к мнению, что если план либерализации будет успешно осуществлен в ближайшие 5-10 лет, то падение цен на нефть можно будет рассматривать как «скрытое благословение для Саудовской Аравии».
Вместе с тем, ряд экспертов задаются вопросом захочет ли и сможет ли консервативно настроенное и привыкшее к комфорту саудовское общество отказаться от спокойной жизни «в стиле рантье» и привыкать к суровым условиям повседневной конкурентной борьбы за различные блага?
Некоторые критики реформ на Западе, которые совсем недавно обвиняли Королевство в консерватизме, теперь предрекают неизбежный крах реформ. Сравнивая преобразования в Саудовской Аравии с экономическими реформами шаха Ирана 1970-х гг., они подчеркивают, что именно «маниакальное стремление шаха к повышению экономического роста и модернизации обернулось дестабилизацией ситуации в стране и нарастанием недовольства населения... что и стало причиной его свержения [11]. Главной причиной свержения шаха стали его «неосведомленность, высокомерие», считает писатель и специалист по Ближнему Востоку Патрик Кокберн. В результате, пишет он, «шах сам спилил сук, на котором сидел» [11].
РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ
А действительно, не станет ли «Видение 2030» той пилой, которой власти «спилят сук, на котором держится саудовская монархия»?
Для подобных рассуждений есть основания. Ведь авторы «Видения» пытаются совместить трудносовместимое: «быть примером преобразований» с одной стороны, и «сохранить верность традициям» с другой. Попытка властей побудить население отказаться от привычных благ, обеспеченных доходами от нефти, и, засучив рукава, упорным трудом зарабатывать «хлеб насущный», действительно, связана с серьезным риском вызвать недовольство в обществе. В первую очередь, это касается 70% трудоспособного мужского населения, работающего в госсекторе и госаппарате, численность которого подлежит сокращению [11]. Но именно госсектор и его сотрудники во все времена составляли опору власти. И сокращение их численности серьезный фактор риска для нее самой.
И все-таки ставить на одну доску нынешних саудовских руководителей с Мухаммедом Резой Пехлеви вряд ли реалистично. В отличие от шаха Ирана, авторов «Видения 2030» нельзя упрекнуть в «неосведомленности и высокомерии», т.к. их Стратегия носит сбалансированный и прагматичный характер. Они не только не игнорируют народ, но и ставят участие подданных во главу угла проекта не просто поддержка, а самое активное участие народных масс в реформах рассматривается ими как важнейшее условие успеха. Хотя, как утверждают некоторые эксперты, и шах был не чужд подобных рассуждений.
Взятый в новой Стратегии курс на сокращение численности экспатов и их замещение местными сотрудниками также связан с риском нарушить функционирование устоявшейся экономической модели. Но и на этом важнейшем направлении «Видением 2030» предусмотрен комплекс мер, направленных на недопущение взрыва и обеспечение роста занятости коренного населения. Речь идет об открытии новых центров профессиональной подготовки, поддержке малых и средних предприятий, развитии таких сфер, как туризм, спорт, индустрия развлечений, которые могут обеспечить быстрый прирост новых рабочих мест. Можно сказать, что саудовское руководство усвоило уроки исламской революции в Иране и многое делает, чтобы избежать их повторения.
РЕФОРМЫ И МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
Нельзя не учитывать и позицию влиятельного мусульманского духовенства, которое обычно выступает с консервативных позиций и не поддерживает инновации.
Вряд ли можно рассчитывать, что духовенство с радостью поддержит, например, намерение властей шире привлекать женщин к участию в трудовой деятельности или открытие в Эр-Рияде здания Оперы с учетом, что в религиозных кругах любые развлечения считаются «порочным занятием».
Пока нет ответа на важный вопрос, не нарушит ли возникающая напряженность вековой союз между правящей династией и мусульманским духовенством, благодаря которому стране удавалось сохранять единство даже в самые сложные времена? Тем не менее, принц Мухаммед бин Салман убежден, что «эра крайнего религиозного экстремизма осталась в прошлом» [12].
Преобразования внутри саудовского королевства имеют и международное измерение. Ведь модернизация страны неизбежно означает ограничение влияния мусульманского духовенства на умы людей, уменьшение возможности распространения религиозного экстремизма, радикальных взглядов и ксенофобии. Одним из результатов этого курса должна стать секуляризация внешней политики, а, следовательно, и снижение террористической активности на Ближнем Востоке и за его пределами.
Кроме того, «Видение 2030» открывает широкие возможности для сотрудничества Королевства с другими странами, чем должна воспользоваться и Россия.
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕФОРМ
Принимая во внимание все сложности, с которыми связана реализация проекта, уже сам факт того, что реформы продолжаются более года, можно считать успехом.
Внушают оптимизм и результаты опроса общественного мнения в Королевстве. Подавляющее большинство 92% саудовской молодежи считают, что руководство ведет страну в правильном направлении таковы результаты уже упоминавшегося опроса Arab Youth Survey 2017 [9].
Позитивную оценку ходу преобразований и лично принцу Мухаммеду дают зарубежные политические деятели и СМИ. «Два года его деятельности в качестве катализатора преобразований, пишет посетивший Королевство в апреле 2017 г. обозреватель газеты Washington Post Dэвид Игнатиус, позволили ему завоевать доверие и продвинуть вперед повестку дня социально-экономических реформ. Изменения пользуются растущей популярностью в этой молодой, пришедшей в движение стране» [12].
Думается, что важный фактор успеха заключается в том, что преобразования проводятся именно принцем Мухаммедом бин Салманом, который является частью и олицетворением нового поколения 30-летних, составляющего основу саудовского общества.
***
Модернизация экономики и общества это единственный путь превращения Королевства в полноправного члена международного сообщества, пользующегося его уважением и не подвергающегося обвинениям в приверженности «средневековым догмам», консерватизме и нарушениях прав человека.
Список литературы / References
1. Arab News, 22.12.2016.
2. Arab News, 03.06.2016.
3. Коммерсантъ (Kommersant) (In Russ.), 10.03.2015. 4. Arafnews, 12.05.2017.
5. Arab News, 09.06.2016.
6. Okaz, 05.05.2017.
7. Arab News, 21.05.2017.
8. Arab News, 22.03.2017.
9. Survey: Saudi youth very optimistic about future //
Saudi Gazette, 04.05.2017.
10. Asharq Al-awsat, 18.05.2017.
11. Cм.: Алистер Крук. Программа «Видение-2030». Готова ли Саудовская Аравия к экономическому краху монархии? // Публикация МДК «Валдай». 23.06.2017. (Alister Krook. Programme “Vision-2030” // MDC “Valdai“ Publication. 23.06.2017) (In Russ.)
12. Arab News, 22.04.2017.
Статья опубликована в журнале "Африка и Азия сегодня" №11 2017
More...
«Ящик Пандоры» федерализации на Ближнем Востоке
Written by Vitaly Naumkin Обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса региону, не перестающему удивлять мир? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма.
Обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса региону, не перестающему удивлять мир? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма.
Призрак федерализма бродит по Ближнему Востоку. На политическом горизонте появляется всё больше проектов федерализации, в которой их внешние и внутренние авторы видят возможность выбраться из клоаки всеобщей конфликтности, в которую втягивается всё больше стран и областей. Йемен, где число проектов подобного рода уже перевалило за десяток; Сирия, вокруг которой разворачивается энергичная борьба за новую конституцию, где не участвует только ленивый; Ирак, где курды недавно показали шаткость грани, отделяющей федерализм от сецессии; Ливия, где децентрализация представляется для многих единственным шансом прекратить разновластие и хаос. Наиболее смелые замыслы касаются Турции, Саудовской Аравии и даже Марокко. Одну страну – Судан – вообще расчленили, но и это не решило острейшие внутренние проблемы тех двух государств, которые были созданы на месте прежнего единого. Энтузиазм, с которым внешние акторы, в том числе те, кто плохо представляет себе, где находится та или страна, и составившие себе о ней представление из туристских справочников (хотя с возвращением туризма в регион, вероятно, придётся повременить), принялись чертить новые границы, позволяет заподозрить их в честолюбивом стремлении вкусить славы знаменитых апологетов колониализма англичанина Марка Сайкса и француза Франсуа Жоржа-Пико, чьи имена, навеки спарившись, вошли в историю. Увы, со знаком минус.
Сонм политологов давно вещает о смерти панарабского национализма. Да, разного рода юнионистские проекты на фоне всеобщей партикуляризации вроде бы сегодня не в моде, но как может исчезнуть национализм, который часто лишь меняет личину? Король умер, да здравствует король! Ведь именно арабский национализм, а вовсе не сладкая парочка – Сайкс-Пико, породил ту систему государств, которая до сих пор существовала на Ближнем Востоке, но недавно дала постоянно расширяющуюся трещину, не выдержав испытания глобализацией. И даже новое покушение на святое святых, предпринятое в этот раз чудаковатым лидером крупнейшей мировой державы, – на арабский характер Восточного Иерусалима – уже не так сильно, как можно было предполагать, консолидирует арабов, да и мусульман, в борьбе против страшной угрозы утраты контроля над святыней. Уверен, что национализм не только не сгинул, но готовится к возрождению, хотя и может принять новые формы. Более того, пока значительная часть местного социума будет видеть в разного рода объединительных проектах способ к избавлению от губительных для народов внутренних конфликтов, разъедающих их идентичность, эти проекты останутся непотопляемыми. Будем, однако, надеяться, что уходит в небытие извращённо-джихадистская версия исламистского объединительного проекта после ликвидации его территориальной базы в Сирии и Ираке. Что же касается другой радикальной версии панисламистского проекта – «братско-мусульманской», то слухи о её смерти могут оказаться преувеличенными.
Но обеспечит ли всеобщая федерализация успешный выход из кризиса не перестающему удивлять мир региону или хотя бы тем находящимся в нём государствам, которые стали относить к числу провалившихся? Возможно, это случится. Но не будем преуменьшать те риски, которые несёт с собой коренное изменение конфигурации государственного устройства любой страны, особенно в условиях традиционного противостояния юнионизма и партикуляризма, исламизма и секуляризма. Так или иначе, подобная перестройка должна тщательно готовиться, выверяться во всех деталях, опираться на квалифицированное экспертное знание. И – самое главное – она должна получить поддержку населения.
Статья опубликована в клубе "Валдай": http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/yashchik-pandory-federalizatsii/
Фото: Bilal Hussein/AP
Ближний Восток на новом витке эскалации войны в Йемене
Written by Алексей Сарабьев В столице Йемена Сане 29 ноября 2017 г. начались прямые столкновения между бывшими тактическими союзниками — боевыми формированиями хуситов и сторонниками экс-президента (1978–2012 гг.) Али Абдаллы Салеха. 2 декабря, после тяжелых боев в столичных кварталах и пригородах с применением гранатометов и артиллерии, последний объявил о разрыве союза с силами хуситов, движением Ансаралла, возглавляемых Абд аль-Маликом аль-Хуси. Уже через два дня было объявлено об атаке хуситами кортежа А. Салеха по дороге из столицы и его убийстве вместе с несколькими соратниками.
В столице Йемена Сане 29 ноября 2017 г. начались прямые столкновения между бывшими тактическими союзниками — боевыми формированиями хуситов и сторонниками экс-президента (1978–2012 гг.) Али Абдаллы Салеха. 2 декабря, после тяжелых боев в столичных кварталах и пригородах с применением гранатометов и артиллерии, последний объявил о разрыве союза с силами хуситов, движением Ансаралла, возглавляемых Абд аль-Маликом аль-Хуси. Уже через два дня было объявлено об атаке хуситами кортежа А. Салеха по дороге из столицы и его убийстве вместе с несколькими соратниками.
Имея своим союзником такого опытного игрока, как А. Салех, хуситы должны были быть готовы, что он продолжит свою игру — и в самый неподходящий для них момент.
Этот бывший странный союз
Али Абдалла Салех, сам выходец из общины мусульман-зейдитов, еще с 2004 г. вел борьбу с повстанцами-хуситами из северной горной йеменской провинции Саада. После покушения на него в июне 2011 г. и до возвращения в страну в сентябре он находился на реабилитации в Саудовской Аравии, а 23 ноября в Эр-Рияде же подписал предложенный ССАГПЗ план передачи власти в обмен на гарантии личной безопасности. Но то, что происходило впоследствии, порождало недоумение и питало подозрения в сложной многоплановой игре, которую стал вести экс-президент в стремлении не выпускать-таки власть из своих рук окончательно. Когда хуситы заняли 21 сентября 2014 г. столицу Йемена, почти не встретив сопротивления, многие заговорили о лояльности ключевых йеменских командиров А. Салеху, который оказался каким-то образом заинтересован в победном марше хуситов по своей стране
Действительно, с течением времени стало ясно, что странный альянс бывших противников состоялся. Тем не менее А. Салех продолжал находиться под подозрением своих тактических партнеров — хуситов. Они хорошо помнили о договоре о закреплении границ с КСА от 12 июня 2000 г. (прежнее соглашение было подписано за 66 лет до того), который обеспечил А. Салеху колоссальный политико-финансовый успех в соперничестве за благосклонность саудитов, в частности с исламистской партией Ислах, а также напрямую затронул территориальные интересы хуситов.
Имея своим союзником такого опытного игрока, как А. Салех, хуситы должны были быть готовы, что он продолжит свою игру — и в самый неподходящий для них момент. Впрочем, не исключена вероятность того, что пришло время экс-президенту заплатить саудитам по каким-то счетам. Возможно, поэтому он выступил со всеми имеющимися у его сторонников силами против хуситов в самой йеменской столице.
И снова — саудовские лидерские амбиции
Предыдущим поводом для негодования королевского дома был запуск ракеты с территорий, контролируемых движением Ансаралла, в направлении Эр-Рияда (4 ноября), и эта атака очень встревожила саудовцев и породила множество мнений. В связи с этим инцидентом можно вспомнить одну из статей резолюции СБ ООН 2216 от 14 апреля 2015 г., в которой содержится требование, «чтобы хуситы незамедлительно и безоговорочно <...> вывели свои силы из всех районов, которые были захвачены ими, в том числе из столицы — Саны, <...> воздерживались от любых провокаций или угроз в адрес соседних государств, в том числе через посредство приобретения ракет класса “земля-земля” и накопления запасов оружия на любой территории, граничащей с территорией соседнего государства». Тот факт, правда, что Саудовская Аравия к моменту подписания резолюции уже три недели бомбила Йемен (с 25 марта) в документе отражен не был.
Через месяц после убийства А. Салеха саудиты могут усилить «южный трек» противостояния Ирану.
Очевидно, что направленная в ноябре 2017 г. на столицу Королевства ракета хуситов дала в руки саудитов дополнительный аргумент, чтобы с негодованием требовать выполнения резолюции Совета Безопасности. Тогда это событие, кроме всего прочего, легло в основу обострения риторики саудитов в отношении иранской «прокси», «Хезболлы» в Ливане, и давления на эту организацию через ливанского премьера, саудовского гражданина Саада аль-Харири.
Через месяц после убийства А. Салеха саудиты могут усилить «южный трек» противостояния Ирану. И уже через активизацию военного давления на другую (по их мнению) иранскую «прокси» — Ансараллу.
Впрочем, весьма вероятно, что упрощенная трактовка оси регионального якобы шиито-суннитского противостояния не проясняет сути происходящего. Представляется, что немаловажным (или даже центральным, хотя и не столь очевидным) фактором остается соперничество за статус самой могущественной в финансовом отношении арабской страны Залива.
Соперничество в Заливе
В свое время клуб, подобный ССАГПЗ, пытались создать такие страны, как Ирак, Египет, Иордания и Йемен. По соглашению, принятому в Багдаде 16 февраля 1989 г., был создан Совет арабского сотрудничества со штаб-квартирой в Аммане. Правила того клуба, который, правда, потерпел крах уже через два года — в результате антииракской кампании в период войны в Заливе, — должны были стать совсем другими. А фактически закрытый для других Совет сотрудничества (ССАГПЗ включает Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию), действующий и по сей день, по-видимому, не испытывает неудобства от абсолютного отсутствия идеологии. Наоборот, этот клуб монархических режимов, как правило, демонстрирует, по выражению одного классика американской философии, «преданность преданности» (loyalty to loyalty).
Внутреннюю сплоченность этого проекта (ССАГПЗ) можно ставить под сомнение по многим причинам, но его жизнеспособность бесспорна, поскольку основана на экспортно-финансовых возможностях его членов. Жесткость внутренней конкуренции проявляется только в показательных акциях вроде недавнего «катарского кризиса», но реальная борьба, похоже, идет между другими двумя богатейшими членами — правящими домами КСА и ОАЭ (ведущими происхождение, кстати, от разных племен, что в Аравии имеет большое значение).
Саудиты уже более двух с половиной лет бомбят соседнюю страну, фактически закрыв ее в экономической изоляции, в то время как, по сведениям экспертов ООН, предоставленным на заседание СБ 5 декабря 2017 г., число голодающих в Йемене достигло 8 млн человек, а подозрений на холеру выявлено до 970 тыс. Тем временем месячный запас продовольствия находился в тот момент на семи грузовых судах в акваториях портов Ходейды и Ас-Салифа, однако войти в порты они не могли.
Тяжесть гуманитарной ситуации выгодно оттеняет усилия, которые прилагают Эмираты для расширения своего влияния в южнойеменских мухафазах (областях) — Махре, Хадрамауте, Шабве и на архипелаге Сокотра. Телекоммуникационная связь, поставки продовольствия, строительство дорог и другие элементы инфраструктуры предоставляются на средства ОАЭ. Чаяния сторонников отделения юга Йемена, тем самым, естественным образом связываются с этой страной.
Так что, возможно, Иран и разыгрывает «йеменскую карту», пытаясь перенести опыт «Сопротивления» «Хезболлы» на почву Ансараллы. Но более прозрачным представляется соперничество (кстати, межсуннитское) совсем по другой оси. Убийство такой значимой когда-то для Аравии фигуры, как А. Салех (а также ряда его родственников и сподвижников), может послужить основанием для ужесточения действий Саудовской Аравии в Йемене. И в плане противостояния с ОАЭ оно дает повод не просто усилить давление на хуситов, но, главное, помешать эмиратской ползучей экспансии в южнойеменских областях.
Все указывает на то, что и йеменская война, и параллельные ей социально-политические процессы в этой стране не исчерпываются геополитическими и военно-стратегическими факторами, не говоря уже о религиозно-конфессиональном.
Пока неизвестно, действительно ли запасы разведанных нефтяных месторождений в Йемене на исходе. Неизвестно также имеют ли под собой почву предположения о якобы богатейших нефтеносных полях на территории страны, для разработки которых нужны как минимум два условия — стабильный юридический статус территорий и безопасность инвестиций. Но все указывает на то, что и йеменская война, и параллельные ей социально-политические процессы в этой стране не исчерпываются геополитическими и военно-стратегическими факторами, не говоря уже о религиозно-конфессиональном. Видимо, имеет смысл искать «кому выгодно», и это в буквальном смысле.
Статья опубликована в РСМД: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/blizhniy-vostok-na-novom-vitke-eskalatsii-voyny-v-yemene/
Фото: REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
Решение Трампа по Иерусалиму может усилить борьбу палестинцев за своё государство
Written by Walid Salem Недавнее решение президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим представляет собой важнейшее изменение американской политики. Это изменение можно описать как переход от прежней позиции ангажированного посредника к позиции партнёра Израиля в его планах в отношении палестинцев.
Недавнее решение президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим представляет собой важнейшее изменение американской политики. Это изменение можно описать как переход от прежней позиции ангажированного посредника к позиции партнёра Израиля в его планах в отношении палестинцев.
Этот переход представляет собой не только нарушение международного права и резолюций ООН по Иерусалиму, но также нарушение подписанной в 1993 году в Белом доме Декларации принципов, известной как Соглашения в Осло. Согласно этим соглашениям (статья 5), судьба всего Иерусалима – и восточной, и западной его части – будет решаться в ходе переговоров двух сторон. В соглашении также содержится призыв не предпринимать односторонних процедур, которые могут оказать негативное влияние на решение вопросов с постоянным статусом, включая Иерусалим. Президент США решил в одностороннем порядке обойти это обязательство и признать Иерусалим столицей Израиля до подписания соглашения о границах и разделе города на две части. Это очень серьёзное нарушение.
Односторонний шаг Трампа противоречит согласованным международным усилиям по решению израильско-палестинского конфликта. Сам по себе он даст властям Израиля дополнительные мотивы для принятия односторонних мер по изменению ландшафта Иерусалима таким образом, чтобы в нём не осталось места палестинцам восточной части города. Они столкнутся с новыми этническими чистками и вынужденной миграцией. Будут использованы различные меры, такие как эвакуация бедуинских пригородов Иерусалима, изгнание из города палестинских общин (лагеря беженцев Куфур Акаб и Шуфат) и конфискация удостоверений личности.
Ответ на этот шаг Америки может быть двояким: первый – президент Трамп получит шанс на то, чтобы разработать «окончательную сделку» и представить её сторонам в ближайшие месяцы. Те, кто поддерживает эту позицию, говорят, что Трамп упоминал об урегулировании по принципу двух государств, подготовке соглашения и о том, что границы суверенитета Израиля над Иерусалимом будут определены в ходе переговоров. И это не считая его призыва к сохранению статуса святых мест Иерусалима.
Вторая точка зрения такова, что после 26 лет переговоров, начиная с мадридской конференции 1991 года и до сегодняшнего дня, надежд на то, что американцы предложат решение, больше нет. Данный подход предполагает иной путь: вернуться к палестинскому государству в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он включает в себя ведение ненасильственной кампании палестинцев за независимость, наращивание палестинского присутствия, особенно в зоне С, Секторе Газа и Восточном Иерусалиме, соединение Сектора Газа с Западным берегом реки Иордан, борьбу за единство палестинского народа и более широкое международное признание Палестины и подачу исков в международные суды в связи с оккупацией.
Второй путь, похоже, может придать новый импульс борьбе за палестинскую государственность. Палестинцы должны встать на этот путь, а затем обратиться к международному сообществу с просьбой поддержать его как путь их национального освобождения.
Таким образом, удар может быть преобразован в возможность для палестинцев обрести право на самоопределение в собственном независимом государстве.
Статья опубликована на сайте клуба Валдай: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/reshenie-trampa-po-ierusalimu/
Фото: Mohammed Zaatari/AP
 К числу бесконечных сюрпризов, связанных с Ближним Востоком, на днях добавился еще один — решение Дональда Трампа по Иерусалиму. Многочисленные аналитики в своих комментариях упускают из виду тот факт, что речь идет фактически о двух отдельных составных частях этого судьбоносного для Ближнего Востока решения американского президента, точнее — даже о двух решениях. Это «двойной прыжок». Первая часть — о признании всего Иерусалима столицей Израиля, вторая — о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Хотя эти два пункта и связаны между собой, более того — одно вроде бы логически вытекает из другого, все же здесь, как говорится, возможны варианты.
К числу бесконечных сюрпризов, связанных с Ближним Востоком, на днях добавился еще один — решение Дональда Трампа по Иерусалиму. Многочисленные аналитики в своих комментариях упускают из виду тот факт, что речь идет фактически о двух отдельных составных частях этого судьбоносного для Ближнего Востока решения американского президента, точнее — даже о двух решениях. Это «двойной прыжок». Первая часть — о признании всего Иерусалима столицей Израиля, вторая — о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Хотя эти два пункта и связаны между собой, более того — одно вроде бы логически вытекает из другого, все же здесь, как говорится, возможны варианты.
Хотя с момента избрания Трампа президентом ситуация в Белом доме развивалась именно в таком направлении, честно говоря, мне до последнего момента не хотелось верить, что президент пойдет на столь безрассудный шаг. Нет никакого сомнения в том, что этот шаг был предпринят под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц (а именно так их оценивают ведущие американские эксперты по региону, с которыми мне в последнее время довелось общаться) в ближайшем окружении Трампа, которые определяют его ближневосточную политику. Их имена хорошо известны, равно как и мотивы их советов полюбившему преподносить сюрпризы американскому президенту. Как минимум, трое из них считаются сторонниками крайне правых сил в Израиле. Как пишет один из аналитиков Брукингса в Вашингтоне Шибли Тельхами: «Его советники живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью». А в то же время, как показывают опросы общественного мнения, 81 процент всех американцев, в том числе 71 процент республиканцев, предпочитают, чтобы Трамп опирался на специалистов по ближневосточной дипломатии, а не неопытных членов своей семьи и личных юристов.
Назову лишь некоторые из возможных последствий решения Трампа.
Решение Трампа похоронит и без того скромные результаты, которых добился Обама на пути улучшения отношений Вашингтона с исламским и арабским миром и создания Америке в этой важной части мирового сообщества имиджа страны, не руководствующейся в своей политике в регионе исключительно интересами Израиля и проводящей в отношении ближневосточного конфликта курс чуть ли не равноудаленности / равноприближенности.
Оно наносит убийственный удар по антитеррористической борьбе и увеличивает шансы террористических, экстремистских и всех радикальных религиозных и националистических организаций на мобилизацию новых сторонников. Отчаяние палестинцев, ярость мусульман будут использованы террористами и экстремистами.
Оно подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается.
Нанесен удар и по международному квартету посредников по ближневосточному урегулированию. Квартет и так-то дышал на ладан, а теперь его просто можно похоронить. Попытаться реанимировать можно, но бесполезно. Равным счетом можно фактически распрощаться с одним из немногих треков конструктивного взаимодействия России и США во внешнеполитической сфере. Работу надо продолжать, но только ради процесса. Результатов теперь уж точно не будет.
Оно подрывает позиции умеренных палестинских лидеров, которым и без того было непросто отстаивать свои позиции перед лицом сторонников радикальных взглядов.
Нанесен ущерб репутации союзников США в мире и в ближневосточном регионе, ослабляется партнерство США с рядом влиятельных государств исламского мира, являвшихся до сих пор ближайшими союзниками Америки. Речь идет, в первую очередь, о стране — члене НАТО — Турции. Партнерство, наверное, останется, но доверия не будет. Французская «Фигаро» от 8 декабря оценивает демарш Трампа очень жестко: «Признавая Иерусалим столицей Израиля, американский президент изолирует свою страну на мировой арене». Макрон прямо заявил, что решение Трампа противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, что и так всем понятно, но, похоже, не только не заботит американского президента, но как будто доставляет ему некоторое удовольствие. Непросто будет и арабским монархиям Залива, не только поддерживающим тесные отношения с США, но и сделавших первые шаги в направлении Израиля. В особенно сложном положении оказывается Иордания, и так переживающая непростые времена.
Решение Трампа усиливает позиции Ирана, к ослаблению которого так стремится американский президент. Напрашиваются параллели с 2003 годом, когда США своим вторжением в Ирак сделали Иран самой влиятельной внешней силой в этой стране.
Разрушается сама концепция ближневосточного мирного процесса, в котором такие вопросы, как беженцы, границы и — самое главное и трудное — Иерусалим, лежат в основе переговоров о так называемом окончательном статусе.
Уже начавшийся в результате решения Трампа раунд насилия вряд ли можно будет легко прекратить, ведь отступаться от своего слова американский президент не намерен. Антиамериканские чувства в исламском мире будут расти, что будет ставить жизни американских граждан под угрозу. При этом речь идет не только о ближневосточных государствах, но и о таких державах, как Индонезия, Пакистан, Бангладеш и других.
Трамп оказывает плохую услугу Израилю, который нуждается в мире с палестинцами для того, чтобы обеспечить безопасное и комфортное существование для граждан своей страны.
Возвращаясь к вопросу о вариантах, нельзя не упомянуть о том, что некоторые мои коллеги — наиболее авторитетные американские специалисты по региону пытаются предложить Трампу минимизировать тот безусловный ущерб, который он наносит своим решением интересам США. В частности, бывший посол в Египте и Израиле Дэниэл, а ныне профессор Принстонского университета Дэниэл Куртцер в статье в New York Daily News предложил, чтобы Трамп, не отменяя решения о признании Иерусалима столицей Израиля, объявил, что в будущем, когда будет реализован план по созданию в Палестине двух государств, он признает этот город также и столицей арабского государства Палестина. Также Трамп мог бы объявить, что после реализации этого плана разместит в Иерусалиме помимо посольства в Израиле и американское посольство в этом новом арабском государстве. Только вряд ли слишком уверенный в себе американский президент прислушается к голосам тех, кто наивно хочет «поправить» его политику.
Зачем это нужно Трампу и почему он это делает сейчас?
Существует точка зрения, что он хочет еще больше ублажить израильских правых (хотя вроде бы и так сделано достаточно много) и, в первую очередь, лично Нетаньяху, который может набрать на этом очки и избавить себя от судебного преследования. Но ведь Трамп, как принято считать, руководствуется, в первую очередь, внутриполитическими соображениями. А как показывают опросы, проведенные университетом Мэриленда в ноябре 2017 г., 59% американцев предпочли бы, чтобы президент не занимал чью-либо сторону в израильско-палестинском конфликте, причем 57%, включая большинство республиканцев, полагают, что он тяготеет к Израилю. Опрос, проведенный специалистами Брукингса, свидетельствует, как сообщает Тельхами, что целых 63% опрошенных выступают против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим, в том числе 44% республиканцев. Даже среди опрошенных, представляющих главную опору Трампа в американском обществе — евангельских христиан, поддерживает перенос посольства незначительное большинство — 53%, против — целых 40%.
Или же он хочет ублажить основную базу поддержки Трампа в США — евангельских христиан? Но там, как мы видели, не все так однозначно. Тем не менее, Нетаньяху делает ставку на этот сегмент американского общества. Он уверен, как утверждает Саймон, что либеральных евреев в следующем поколении американцев или после него уже не будет, и евангельские христиане вместе с ортодоксальными евреями поставить надежный заслон американскому давлению на Израиль.
А, может быть, Трамп просто желает в очередной эпатировать все международное сообщество, заставив его считаться с любыми своими решениями, даже самыми сумасбродными?
Если Нетаньяху надеется на то, что общая заинтересованность Израиля и Саудовского королевства в сдерживании Ирана заставит короля Сальмана и наследного принца Мухаммада смириться с потерей всех надежд на сохранение контроля мусульман хотя бы над частью третьего по значению священного для них города после Мекки и Медины, то он явно ошибается. И в Израиле, и особенно в США вообще всегда недооценивали центральность вопроса об Иерусалиме для мусульман. Конечно, правители Саудовской Аравии сегодня рассматривают Иран как бóльшую проблему для себя и для региона, нежели израильско-палестинский конфликт. Однако не будем забывать, что саудовский монарх носит титул «Хранителя двух святынь» (Мекки и Медины). Согласиться с потерей третьей святыни означает потерять лицо перед почти полуторамиллиардным населением исламского мира. Да и с точки зрения обеспечения прочности своего режима тоже небезопасно. Как считает известный эксперт по Ближнему Востоку, работающий в Сингапуре Джеймс Дорси, саудовская поддержка решения Трампа означала бы, что выпущенный из бутылки джинн повернулся бы против королевства и его правящего семейства.
Думается, что происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях.
Говорят, что совершившему «двойной тулуп» современному фигуристу не стоит большого труда приземлиться. Удастся ли сделать это американскому президенту?
Статья опубликована в РСМД: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dvoynoy-tulup-trampa/
Фото: REUTERS/Goran Tomasevic